вездесущих взглядов? В городе, где единственную возможность уединиться от
людей дают хороший замок и засов. У кого их нет, нет надежного убежища для
справления нужды, тот самый жалкий и презренный из всех людей, какую бы
свободу он не имел. Джонатан мог бы обходится небольшими деньгами. Он мог бы
даже представить себе, что на нем поношенный пиджак и дырявые штаны. В
крайне безвыходной ситуации, мобилизовав всю свою романтическую фантазию,
для него было бы все-таки еще мыслимым спать на куске картона и ограничить
уют собственного дома хоть каким-нибудь уголком, решеткой отопительной
системы, лестничной клеткой станции метро. Но когда ты в крупном городе,
справляя большую нужду, не можешь даже прикрыть за собой дверь -- будь то
хотя бы дверь общего на весь этаж туалета, -- если ты лишен одной только
этой важнейшей свободы, а именно свободы уединиться в нужде от других людей,
то тогда все остальные свободы ровным счетом ничего не значат. Да и жизнь
тогда не имеет никакого смысла. Тогда лучше умереть.
Когда Джонатан убедился, что суть человеческой свободы состоит во
владении общим на весь этаж туалетом и что он располагает этой существенной
свободой, его охватило чувство глубокого удовлетворения. Да, все-таки жизнь
свою он устроил хорошо! Его существование можно целиком и полностью назвать
счастливым. В нем ничего не было, а это тем более означает, что в нем не о
чем жалеть и незачем завидовать другим людям.
С того часа он стоял перед воротами банка словно на окрепших ногах. Он
стоял точно вылитый из бронзы. Те солидные самодовольство и самоуверенность,
которые он до сих пор предполагал у бродяги, влились в него, словно
расплавленный металл, застыли в нем точно внутренняя броня и сделали его
весомей. Впредь ничто уже не могло его больше поколебать и никакое сомнение
не могло выбить почву у него из-под ног. Он обрел невозмутимое спокойствие.
К бродяге, если он его где-нибудь встречал или видел сидящим, он испытывал
лишь то чувство, которое принято называть терпимостью: очень равнодушная
смесь отвращения, пренебрежения и сочувствия. Этот человек его больше не
волновал. Он был ему абсолютно безразличен.
Он был ему безразличен вплоть до сегодняшнего дня, когда Джонатан сидел
в Скуар Букико, поедал свои булочки с изюмом и попивал молоко из пакета.
Обычно на обед он ходил домой. Он ведь жил всего лишь в пяти минутах ходьбы
отсюда. Обычно дома он что-нибудь готовил или разогревал на своей плитке,
омлет, яичницу "глазунью" с ветчиной, вермишель с растертым сыром,
оставшийся со вчерашнего дня суп, а также салат и чашечку кофе. Прошла уже
целая вечность с того дня, когда он в обеденный перерыв в последний раз
сидел на парковой скамеечке, ел булочки с изюмом и запивал их молоком из
пакета. Сладкое, собственно говоря, он не очень любил. Да и молоко тоже. Но
ведь сегодня он уже заплатил пятьдесят пять франков за гостиницу; и в этой
ситуации для него было бы слишком расточительным пойти в кафе и заказать там
омлет, салат и пиво.
Бродяга на скамейке в глубине парка закончил свою обеденную трапезу.
После сардин с хлебом он отправил в себя еще сыр, груши и кекс, сделал
большой глоток из бутылки с вином, издал из себя стон глубочайшего
удовольствия, затем свернул свой пиджак подушечкой, положил на него голову
и, чтобы после обеда отдохнуть, вытянул на скамейке во всю длину свое
ленивое сытое тело. Теперь он спал. Приблизились, подпрыгивая, воробьи и
начали склевывать хлебные крошки, затем к скамейке, привлеченные воробьями,
приковыляли несколько голубей и начали долбить своими черными клювами
откушенные сардиньи головы. Бродяге птицы не мешали. Его сон был глубоким и
спокойным.
Джонатан рассматривал его. И пока он его рассматривал, его охватило
какое-то непонятное беспокойство. Беспокойство это питалось не завистью, как
в свое время, а скорее удивлением: как это возможно, -- спрашивал он себя,
-- что этот человек, которому уже за пятьдесят, вообще еще живет? Не должен
ли был он при своем более чем безответственном образе жизни уже давно
помереть с голоду, замерзнуть, загнуться от цирроза печени -- так или иначе,
но быть мертвым? Вместо этого он с прекрасным аппетитом ел и пил, спал сном
праведника и производил в своих латаных штанах -- которые уже давно,
конечно, были не те штаны, которые он спустил тогда на Рю Дюпен, а
относительно приличные, почти модные, лишь там и сям зашитые вельветовые
штаны -- и своем пиджаке из хлопчатобумажной ткани впечатление более чем
благополучной личности, которая живет в наилучшем согласии с собой и
окружающим миром и наслаждается жизнью... в то время как он, Джонатан, -- и
его удивление росло и росло аж до какой-то нервной путаницы в мыслях, -- в
то время как он, который все-таки всю жизнь был порядочным и правильным
человеком, скромным, почти аскетичным и аккуратным, всегда пунктуальным и
послушным, надежным, добропорядочным... и каждый су, который был у него, он
заработал сам, и всегда за все платил наличными, счет за электроэнергию,
квартирную плату, рождественские деньги для консьержки... никогда не имел
долгов, не был никогда и никому в тягость, ни разу не болел и не залезал в
карман социальному страхованию... никогда никого ничем не обидел, никогда,
никогда не желал в жизни ничего другого, а только обеспечить и сохранить
свой собственный, скромный маленький душевный мир... в то время как он на
пятьдесят третьем году своей жизни влип в историю, от которой голова идет
кругом и которая до основания потрясла весь его так тонко состряпанный
жизненный уклад, привела его в замешательство и свела с ума, и из-за жуткого
смятения и страха он жрет эту булку с изюмом. Да, он боится! Видит Бог, что
он дрожит от страха при одном только виде этого спящего бродяги: его
охватывал жуткий страх перед тем, что придется стать таким, как этот
опустившийся человек на скамейке. Как быстро это происходит, когда нищают и
опускаются! Как быстро рушится казалось прочно возведенный фундамент
собственного существования! "Ты прозевал лимузин мосье Редельса, -- снова
пронеслось у него в голове. -- То, чего никогда не случалось, и то, что
никогда не должно было случиться, сегодня все-таки произошло: ты прозевал
лимузин. А прозевав лимузин сегодня, завтра ты можешь прозевать всю службу
или потерять ключ от решетчатых жалюзи, а в следующем месяце тебя с позором
уволят, и новую работу тебе не найти, кто возьмет человека, который уже
однажды не справился со своими обязанностями? На пособие по безработице
прожить нельзя, свою комнату к тому времени ты и без того уже давно
потеряешь, там живет голубь, целое семейство голубей населяет, загаживает и
опустошает его комнату, счета за гостиницу вырастают до астрономических
сумм, из-за этих забот ты начинаешь пить, пьешь все больше и больше,
пропиваешь все свои сбережения, спиваешься окончательно, заболеваешь,
деградируешь, покрываешься вшами, опускаешься окончательно, тебя изгоняют из
последнего дешевого пристанища, у тебя нет больше ни су, ты стоишь перед
пустотой, ты -- на улице, ты спишь, ты живешь на улице, ты справляешь нужду
на улице, тебе конец, Джонатан, к концу года тебе будет конец, ты словно
бродяга в оборванных одеждах будешь лежать на парковой скамейке, как он
лежит, твой опустившийся собрат!"
Во рту у него пересохло. Он отвел взгляд от зловещего предзнаменования,
исходившего от этого спящего мужчины и запустил зубы в последний кусок своей
булочки с изюмом. Это продолжалось целую вечность, пока кусок оказался в
желудке, он со скоростью улитки обдирал пищевод, иногда казалось, что он
вообще остановился, и давил, и делал больно, словно прокалывающая грудь
иголка, так что Джонатан подумал, что он, наверное, подавится этим
отвратительным куском. Но затем эта штуковина снова сдвинулась дальше,
немножко и еще чуть-чуть, и наконец достигла цели и судорожная боль
отпустила. Джонатан глубоко вздохнул. Теперь он решил уйти. Ему не хотелось
здесь больше оставаться, хотя обеденный перерыв заканчивался только через
полчаса. С него хватит. Ему было противно здесь. Тыльной стороной ладони он
смахнул со своих форменных брюк те несколько хлебных крошек, которые попали
на них во время еды, невзирая на всю его осторожность, расправил складки
брюк, поднялся и направился из парка, не бросив в сторону бродяги ни единого
взгляда.
Он был уже на Рю де Севр, когда вдруг вспомнил, что он оставил на
скамейке пустой пакет из-под молока, а это было ему неприятно, потому что он
ненавидел, когда другие люди оставляют на скамейке мусор или просто бросают
его на улицу вместо того, чтобы бросить туда, куда положено, конкретно -- в
расставленные повсюду урны. Лично он никогда еще не бросал мусор просто так
или не оставлял его на скамейках, никогда, будь то из небрежности или
забывчивости, что-либо в таком роде с ним просто не случалось... поэтому он
и не хотел, чтобы это случилось с ним сегодня, тем более сегодня, в этот
критический день, когда уже произошло столько кощунственного. Он и без того
уже начал катиться по наклонной плоскости, и без того вел себя как дурак,
как не отвечающий за свои поступки субъект, почти как асоциальный тип --
прозевать лимузин мосье Редельса! Обедать в парке булочками с изюмом! И если
сейчас он не сосредоточится, тем более -- в мелочах, если не начнет самым
энергичным образом противодействовать таким казалось бы второстепенным
небрежностям, как этот оставленный пакет из-под молока, то тогда он
полностью потеряет равновесие и его кончину в нищете уже ничем нельзя будет
предупредить.
Он развернулся и отправился обратно в парк. Еще издалека он увидел, что
скамейка, на которой он сидел, еще никем не занята, и, подойдя ближе, он
рассмотрел к своему облегчению на фоне окрашенных в темно-зеленый цвет реек
спинки скамейки белый картон молочного пакета. Очевидно никто еще не обратил
внимание на его небрежность, и он мог исправить свою непростительную ошибку.
Подойдя к скамейке сзади, он левой рукой достал в глубоком наклоне через
спинку скамейки пакет, снова выпрямился, сделав при этом резкий поворот всем
телом в правую сторону, приблизительно в том направлении, где он предполагал
ближайшую урну -- и тут он почувствовал на своих брюках резкий, сильный,
направленный наискось вниз рывок, которому он никак не мог
противодействовать, поскольку он был слишком внезапным и поскольку рывок
этот возник как раз посередине его собственного раскручивающегося движения
вверх в противоположном направлении. Одновременно с этим раздался
отвратительный звук, громкое "трр!", и он ощутил, как по коже левого бедра
струится легкий сквознячок, что свидетельствовало о свободном доступе
наружного воздуха. На какое-то мгновение его охватил такой ужас, что он не
решался взглянуть. Этот звук "трр!" -- а он все еще звучал в его ушах --


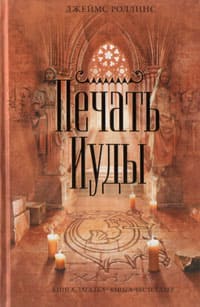


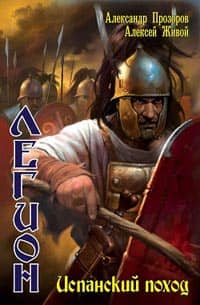
 Акунин Борис
Акунин Борис Березин Федор
Березин Федор Корнев Павел
Корнев Павел Корнев Павел
Корнев Павел Свержин Владимир
Свержин Владимир Василенко Иван
Василенко Иван