Патрик Зюскинд.
История господина Зоммера
1995. -- 448 с.
годы и десятилетия назад, был я чуть выше одного метра ростом, носил обувь
двадцать восьмого размера и был таким легким, что мог летать -- нет, я не
вру, я на самом деле мог бы летать -- или, по крайней мере, почти мог, или
скажем лучше: в то время летать действительно было в моей власти, если бы я
на самом деле очень твердо этого захотел или попытался бы это сделать,
потому что... потому что я точно помню, что один раз я чуть не полетел, а
было это однажды осенью, в тот самый год, когда я пошел в школу и
возвращался однажды из школы домой, в то время как дул такой сильный ветер,
что я, не расставляя рук, мог опереться на него под таким же углом, как
прыгун на лыжах, даже еще под большим углом, не боясь упасть... и когда я
затем побежал против ветра, по лугу вниз со школьной горы -- ибо школа
находилась на небольшой горе за деревней -- и слегка оттолкнулся от земли и
расставил руки, ветер тут же подхватил меня и я смог без всякого труда
совершать прыжки в два-три метра в высоту и в десять-двенадцать метров в
длину -- а может и не такие длинные, и не такие высокие, какое это имеет
значение! -- во всяком случае я п о ч т и летел, и если бы я только
расстегнул мое пальто и взял бы в руки обе его полы и расставил бы их, как
крылья, то ветер бы окончательно поднял меня в воздух и я бы с абсолютной
легкостью спланировал бы со школьной горы над долиной к лесу, а затем над
лесом вниз к озеру, у которого стоял наш дом, где к безграничному удивлению
моего отца, моей матери, моей сестры и моего брата, которые были уже слишком
стары и слишком тяжелы для того, чтобы летать, заложил бы высоко над садом
элегантный разворот, чтобы затем проскользить в обратном направлении над
озером, почти достигнув противоположного берега, и, наконец, неторопливо
проплыть по воздуху и все еще вовремя попасть домой к обеду.
боялся полететь, а потому что я не знал, как и где, и смог ли бы я вообще
снова приземлиться. Терраса перед нашим домом была для посадки слишком
твердой, сад слишком маленьким, вода в озере слишком холодной. Взлететь -- с
этим проблем не было. Но как можно было спуститься назад?
минимальную трудность. Я видел ветки перед собой, я чувствовал их в руках и
мог проверить их крепость еще до того, как подтягивался на них и затем
ставил на них ногу. Но когда я спускался вниз, я не видел ничего и был
вынужден в большей или меньшей степени вслепую нащупывать ногой растущие
ниже ветки, пока не находил твердую опору, а зачастую опора эта была весьма
не твердой, а трухлявой или скользкой, и тогда я соскальзывал или
проваливался, и если я тогда не успевал схватиться обеими руками за
какую-нибудь ветку, я падал, подобно камню, на землю, в соответствии с так
называемыми законами падения, которые уже почти четыреста лет назад открыл
итальянский исследователь Галилео Галилей и которые еще действуют и сегодня.
Оно произошло почти с четырехсполовинойметровой высоты с белой ели,
совершилось в абсолютном соответствии с первым законом падения Галилея,
который гласит, что расстояние падения равно половине величины земного
притяжения, умноженного на время в квадрате (s = 1/2 g х t^2), и
продолжалось вследствие этого ровно 0,9578262 секунды. Это чрезвычайно
короткое время. Оно короче чем время, которое необходимо для того, чтобы
сосчитать от двадцати одного до двадцати двух, да даже короче чем время,
которое необходимо для того, чтобы аккуратно произнести это самое число
"двадцать два"! Дело произошло со столь огромной скоростью, что я не смог ни
расставить руки. ни расстегнуть пальто и использовать его как парашют, что
мне даже не пришла в голову спасительная мысль, что мне ведь совершенно не
нужно падать, потому что ведь я мог летать -- я совершенно не мог ни о чем
думать в эти 0,9578262 секунды, и не успел я вообще сообразить, ч т о я
падаю, как грохнулся на лесную почву уже в соответствии со вторым законом
падения Галилея (v = g х t) с конечной скоростью более 33 километров в час,
и причем так сильно, что сломал затылком сук толщиной с руку. Сила, которая
была причиной этого, называется силой тяжести. Она не только связывает все
внутри мира, но и имеет хитрое свойство, притягивать к себе все, будь то
большое или еще маленькое, с грубой силой, и лишь пока мы покоимся в
материнском чреве или скользим, ныряя, под водой, мы явно освобождаемся от
ее оков. Вместе с этим элементарным пониманием от этого падения у меня
осталась шишка. Она исчезла уже через пару недель, но с годами я стал
чувствовать на том же самом месте, где когдато была шишка, странные зуд и
биение тогда, когда менялась погода, особенно перед тем, как начинал идти
снег. И сегодня, почти сорок лет спустя, мой затылок служит мне надежным
барометром, и я могу точнее, чем служба погоды, сказать, пойдет ли завтра
дождь или снег, будет ли светить солнце или поднимется буря. Я еще думаю,
что определенное замешательство и несосредоточенность, которыми я страдаю в
последнее время, являются поздними последствиями падения с той белой ели.
Так, например, мне все труднее и труднее удается не уходить от темы, четко и
коротко формулировать какую-то мысль, и если я рассказываю какую-нибудь
историю наподобие этой, мне приходится прилагать адские усилия, чтобы не
потерять нить повествования, иначе я от сотенных перейду к тысячным, и в
конце я уже не знаю, о чем я вообще начинал говорить.
хорошо, и не всегда я только падал я мог даже лазить на деревья, у которых
внизу не было веток и но которым вследствие этого нужно было взбираться по
гладкому стволу, и я мог еще перелазить с одного дерева на другое, и я
строил себе на деревьях площадки, множество, а однажды построил себе на
дереве настоящий дом, с крышей и окнами, с ковровым полом, посреди леса, на
высоте в десять метров -- ах, мне кажется, что большую часть времени в своем
детстве я провел на деревьях: я ел, и читал, и писал, и спал на деревьях, я
учил там английские слова и латинские неправильные глаголы, и математические
формулы, и физические законы, как, например, уже упоминавшиеся законы
падения Галилео Галилея, -- все на деревьях: я делал на деревьях мои
домашние задания, устные и письменные, и с пристрастием я писал с деревьев
вниз, высокой дугой с шелестом сквозь иглы и листву.
отвлекающие крики матери, никакие солдафонские приказы старшего брата сюда
не доносилнсь, здесь были только ветер и шелест листвы, и нежный скрип
стволов... и вид, великолепный вид. Я мог смотреть не только поверх нашего
дома и сада, я мог видеть поверх других домов и садов, через озеро и через
равнину за ним до самых гор, и когда вечером солнце садилось, я мог сверху,
с моего наблюдательного пункта на дереве видеть даже солнце, уже зашедшее за
горы, когда для людей внизу, на земле, оно уже давно село. Это было почти то
же, что летать. Может быть, не так захватывающе и не так элегантно, но все
же хороший заменитель полетов, особенно когда я постепенно становился
старше, метр восемнадцать ростом и весил двадцать три килограмма, и был уже
слишком тяжелым для того, чтобы летать, даже если бы вдруг подул настоящий
ураган и я расстегнул бы свое пальто и распахнул бы его во всю ширь. Но
лазить по деревьям... -- так думал я тогда я мог бы лазить всю жизнь. Даже
если бы мне было уже сто двадцать лет и был бы я уже дряхлым трясущимся
стариком, я бы сидел там наверху, на верхушке вяза, бука, ели, как старая
обезьяна, покачиваясь тихонько на ветру, глядя поверх долины и поверх озера,
доставая взором за самые горы...
законах падения Галилео Галилея и о шишке-барометре на моем затылке, которая
вводит меня в конфуз! Ведь я хочу рассказать что-то совершенно другое, а
именно историю господина Зоммера -- насколько это вообще возможно, ибо на
самом деле не было никакой настоящей истории, а был только лишь этот
странный человек, чей жизненный путь -- или, может быть, правильнее стоит
сказать: чей прогулочный путь? -- переплелся несколько раз с моим. Но лучше
всего, если я все-таки еще раз начну с самого начала.
скорее, не в нашей деревне, не в Унтернзее*, а в соседней деревне, в
Обернзее**, -- но это нельзя 6ыло разграничить четко, потому что Обернзее и
Унтернзее и все остальные деревни не имели какой-то строгой границы, а
чередовались друг за другом вдоль берега озера, не имея видимого начала или
конца, как узкая цепь садов и домов, и дворов, и лодочных будок... В общем,
в этой местности, меньше чем в двух километрах от нашего дома, жил человек
по имени "господин Зоммер". Никому не было ведомо, как звали господина
Зоммера по имени, Петер ли, или Пауль, или Хайнрих, или Франц-Ксавер, был ли
он доктором Зоммером, или профессором доктором Зоммером -- его знали только
лишь и единственно под именем "госполин Зоммер". Кроме того, ни одна душа не
ведала, какой работой занимался господин Зоммер, была ли у него какая-нибудь
профессия и имел ли он ее когда-либо вообще. Было известно лишь то, что г о
с п о ж а Зоммер имела профессию, которой занималась, а именно профессию
кукольника. Изо дня в день сидела она в квартире Зоммеров, в полуподвале
дома мастера малярного цеха Штангльмайера, и мастерила там из шерсти, ткани
и опилок маленькие детские куклы, которые она один раз в неделю,
запакованные в большой сверток, относила на почту. На обратном пути с почты
она по очереди заходила к лавочнику, к булочнику, к мяснику и к зеленщику,
возвращалась домой с четырьмя туго набитыми сумками, не выходила из квартиры
всю следующую неделю и мастерила новые куклы. Откуда появились Зоммеры,
известно не было. Они просто когда-то однажды появились -- она на автобусе,
он пешком, -- и с тех пор они просто были. У них не было детей, не было
родственников, и к ним никто и никогда не приходил в гости.



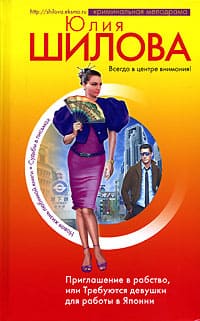
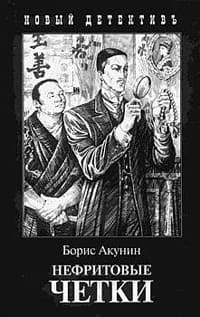
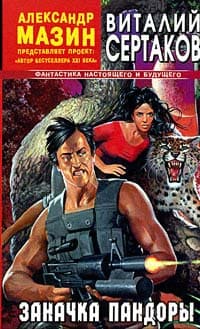
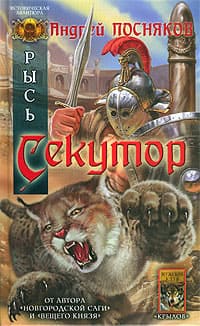 Посняков Андрей
Посняков Андрей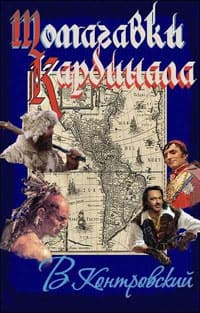 Контровский Владимир
Контровский Владимир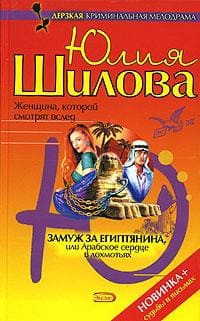 Шилова Юлия
Шилова Юлия Самойлова Елена
Самойлова Елена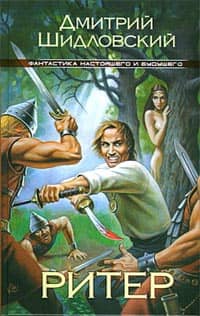 Шидловский Дмитрий
Шидловский Дмитрий Шилова Юлия
Шилова Юлия