счастья. Я не только ни на йоту не должен был заботиться о погоде -- нет,
погода сама заботилась лично обо м н е ! Я не только мог проводить сегодня
Каролину Кюкельманн -- нет, я получил сегодня в придачу еще и самый
прекрасный день в этом году! Я был баловнем судьбы! На меня упал
благосклонный взгляд Господа Бога. Только бы сейчас, -- думал я тогда, когда
на меня снизошла милость, не наделать глупостей! Только бы не сделать теперь
никакой ошибки, из заносчивости ли или из гордости, как это всегда делали
герои в сказках и этим самым разрушали свое счастье, в которое уже
окончательно поверили!
я вел себя безупречно, как никогда раньше, чтобы учитель не мог найти ни
малейшей причины для того, чтобы оставить меня в школе после уроков. Я был
кротким, как овечка, и вместе с тем внимательным, порядочным и готовым
ответить на все вопросы, просто экземпляр образцового школьника. Я ни разу
не посмотрел в сторону Каролины, я принуждал себя не делать этого, пока что
не делать, я запрещал это себе, почти суеверно думая, что из-за того, что я
слишком рано посмотрю на нее, я в конце могу ее потерять...
задержаться еще на час, я уже не помню почему, был ли это урок домоводства
или еще по какой-то другой причине. Но всяком случае, отпустили только нас,
мальчишек. Я не принял это происшествие трагически -- наоборот. Оно
показалось мне дополнительным испытанием, которое мне нужно было выдержать и
которое я обязательно должен был выдержать, и оно придавало страстно
желанной прогулке с Каролиной кроме всего прочего еще и особый оттенок:
целый час нам предстояло ждать друг друга!
Унтернзее, меньше чем в двадцати метрах от ворот школы. На этом месте из
земли торчал камень, ледниковый валун, гладкая поверхность большого обломка
скалы. Посреди этого камня было выбитое углубление в форме копыта.
Рассказывали, что это углубление ни что иное, как отпечаток следа дьявола,
который на этом месте в гневе топал ногами, потому что крестьяне еще в
незапамятные времена построили поблизости церковь. На этом камне я и уселся,
и убивал время тем, что выплескивал пальцем лужицу дождевой воды, которая
собралась в ямке, оставленной чертом. Солнце согревало мне лучами спину,
небо было все еще иссиня-голубым, без единого облачка, я сидел и ждал, и
вычерпывал воду, и ни о чем не думал, и чувствовал себя неописуемо прекрасно
в своей шкуре.
пронеслась мимо меня, а потом, самая последняя, о н а. Я встал. Она
подбежала ко мне, темные волосы покачивались, заколка на аккуратной головке
подпрыгивала в такт шагам, на ней было лимонно-желтое платье, я протянул ей
руку, она остановилась передо мной, так же близко, как и тогда, на перемене,
я хотел взять ее за руку, я хотел привлечь ее к себе, а больше всего мне
хотелось ее прямо здесь же обнять и поцеловать прямо в лицо, и она сказала:
моя мать не пойдет к ней, и моя мать сказала, что...
молчал, потому что пытался удержаться на ногах, потому что у меня вдруг в
голове стало до такой степени пусто, а ноги вдруг стали ватными, и
единственное, что я еще мог вспомнить, что, закончив говорить, она
неожиданно повернулась и лимонно-желтой фигуркой побежала в сторону
Обернзее, быстро-быстро, чтобы успеть догнать остальных девочек.
медленно, потому что, когда я дошел до края леса и чисто механически
посмотрел на лежащую вдалеке дорогу в сторону Обернзее, там уже никого не
было видно. Я остановился, обернулся и посмотрел назад на неровную,
холмистую линию школьной горы, откуда я пришел. Солнце неподвижно стояло над
лугом, ни дуновение ветерка не тревожило траву. Все как будто замерло.
края леса, которая непрерывно двигалась вправо, вдоль кромки леса, на
школьную гору, на самый верх, следуя направлению цепи холмов, пройдя
наискось, на юг. На голубом фоне неба она вырисовывалась такой маленькой,
словно муравей, но было отчетливо видно, что это человек, который шел по
верху, и я узнал три ноги господина Зоммера. Равномерно, как часовой
механизм, крошечными, ежесекундными шажками его ноги бежали вперед, и
далекая точечка двигалась медленно и быстро одновременно, как большая
стрелка часов -- наискось вдоль линии горизонта.
потому что ростом я был уже метр тридцать пять, весил тридцать два
килограмма и носил обувь тридцать второго с половиной размера. Но езда на
велосипеде не особенно меня интересовала. Этот ненадежный снособ движения
вперед ни на чем более, как на двух тонких колесах казался мне в глубочайшей
степени несолидным, даже ужасным, потому что никто не мог мне объяснить,
почему в состоянии покоя велосипед сразу же заваливачся набок, если под ним
в этот момент не было подставки, он не был к чему-то прислонен или его
кто-нибудь не держал -- но н е падал, когда на него садился человек весом в
тридцать два килограмма и ехал на нем без всяких подпорок и ни к чему не
прислоняясь. Лежащие в основе этого удивительного феномена законы природы, а
именно закон центробежной силы и особенно так называемый механический закон
сохранения импульса вращения, были мне в то время совершенно неизвестны, и
даже сегодня я не понимаю их полностью, а само слово "механический закон
сохранения импульса вращения" кажется мне каким-то заумным и приводит меня в
замешательство до такой степени, что в моем затылке появляются зуд и стук.
этом не было жгучей необходимости. Но жгучая необходимость в этом была,
потому что я должен был брать уроки игры на пианино. А уроки игры на пианино
я мог брать только у учительницы игры на пианино, которая жила на другом
конце Обернзее, куда пешком нужно было затратить целый час, а на велосипеде
-- как просчитал для меня мой брат -- можно было добраться всего лишь за
тринадцать с половиной минут.
на пианино, и моя сестра, и мой брат и вообще каждый человек во всей нашей
округе, который мог всего лишь нажимать на какую-нибудь одну клавишу -- от
церковного органа до аккордеона Риты Штангльмайер -- ...эту учительницу игры
на пианино звали Мария-Луиза Функель, а точнее, ф р о й л я й н Марии-Луизе
Функель. На это "фройляйн" она делала особое ударение, хотя за всю мою жизнь
я не видел женского существа, которое менее подходило бы под определение
"фройляйн" чем Марии-Луизе Функель. Она была древней, седовласой, горбатой,
сморщенной, над верхней губой у нее были маленькие черные усики и вообще не
было груди. Я это знаю, потому что однажды я видел ее в нижней рубашке,
когда по ошибке я пришел на урок на час раньше, а ее послеобеденный сон еще
не закончился. Тогда она стояла в дверях своей старой виллы, одетая только в
юбку и нижнюю рубашку, но не в такую нежную, широкую, шелковую нижнюю
рубашку, какие с удовольствием носят женщины, а в плотно прилегающее
хлопчатобумажное трико без рукавов, такое, как мальчишки носят на уроках
физкультуры, и из этой рубашки для занятий физкультурой висели ее сморщенные
руки, торчала ее тонкая кожаная шея, а внизу все было плоским и худым, как
куриная грудь. Тем не менее, она состояла -- как я уже сказал -- из
"фройляйн" перед "Функель", а именно потому, что как она это часто объясняла
без того, чтобы ее кто-то об этом спрашивал, потому что мужчины иначе могли
бы подумать, что она вроде бы уже замужем, тогда как она все еще незамужняя
девушка и только собирается это сделать. Это объяснение было, конечно, ничем
иным, как абсолютной чушью, потому что человека, который бы женился на
старой, усатой, безгрудой Марие-Луизе Функель, такого просто не сущестновало
во всем мире.
что она просто не могла называть себя "фрау Функель", даже если бы она этою
очень захотела, потому что уже существовала одна фрау Функель... или,
наверное, нужно сказать правильнее: существовала еще одна фрау Функель. Дело
в том, что у фройляйн Функель была мать. И если я уже говорил, что фройляйн
Функель была древней, то я просто не знаю, как я должен характеризовать фрау
Функель: древней, как камень, как кость, как дерево, ископаемо-древней...
Мне кажется, что ей было как минимум сто лет. Фрау Функель была такой
старой, что нужно, собственно говоря, заметить, что она вообще существовала
в очень ограниченном смысле, в большей степени как мебель, в большей степени
как покрывшаяся пылью, препарированная бабочка или как хрупкая, тонкая,
старая ваза, чем как человек, состоящий из плоти и крови. Она не двигалась,
она не говорила, насколько она слышала или видела, я не знаю, я никогда не
видел ее иначе, чем сидящей. А именно она сидела -- летом закутанная в белое
тюлевое платье, зимой полностью замотанная в черный бархат, из которого
по-черепашьи торчала ее головка -- в глубоком кресле в самом дальнем углу
комнаты, в которой стояло пианино, под часами с маятником, молчаливая,
неподвижная, не удостаивающаяся ничьего внимания. Только в очень-очень
редких случаях, когда ученик уж очень хорошо выучивал домашнее задание и без
единой ошибки исполнял этюды Черни, фройляйн Функель имела обыкновение
выходить на середину комнаты и кричать оттуда в сторону глубокого кресла:
"Ма! -- так называла она свою мать "Ма", -- Ма! Иди сюда, дай мальчику
пирожное, он так хорошо играл!" И тогда нужно было идти наискось по всей
комнате в угол, становиться вплотную рядом с глубоким креслом и протягивать
руку старой мумии. И фройляйн Функель снова кричала: "Дай мальчику пирожное,
Ма!" -- и тогда, неописуемо медленно, откуда-то из-под тюлевой оболочки или
из-под черного бархатного одеяния появлялась голубоватая, дрожащая, хрупкая
старческая рука, двигалась, не сопровождаемая ни глазами, ни поворотом
черепашьей головы, вправо, над подлокошиком к небольшому столику, на котором
стояла ваза с пирожными, брала из вазы одно пирожное, обычно то, которое
было наполнено белым кремом, прямоугольное вафельное пирожное, двигалась с
пирожным обратно над подлокотником глубокого кресла, над коленями к


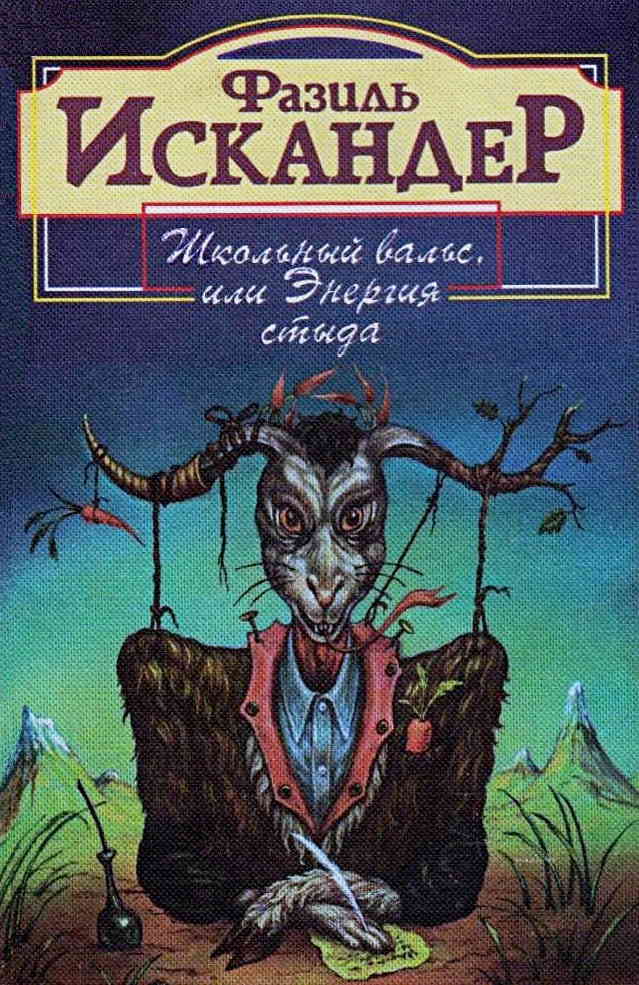


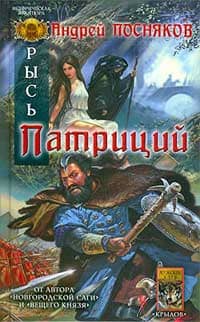
 Каргалов Вадим
Каргалов Вадим Якубенко Николай
Якубенко Николай Свержин Владимир
Свержин Владимир Херберт Фрэнк
Херберт Фрэнк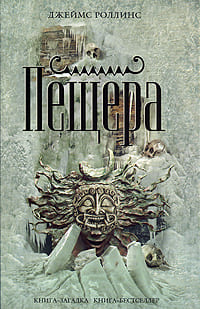 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс