тетрадь и фыркнула:
листа, а наизусть, и аллегро, а иначе ты доиграешься! -- И вслед за этим она
открыла толстую партитуру для четырех рук и громко поставила ее на подставку
для нот. -- А теперь мы еще десять минут поиграем Диабелли, чтобы ты наконец
научился читать ноты. Печально, что ты делаешь ошибки!
приятный композитор. Он не был таким живодером-фугописцем, как этот ужасный
Хесслер. Играть Диабелли было просто, до смешного просто, и при этом все же
всегда звучало очень здорово. Я любил Диабелли, несмотря на то что моя
сестра иногда говорила: "Кто совершенно не умеет играть на пианино, даже тот
сможет сыграть Диабелли".
подражая органу, а я справа, обеими руками, в унисон, в дисканте. Какое-то
время это получалось довольно неплохо, я чувствовал себя все более уверенно,
благодарил Господа Бога, что он создал композитора Антона Диабелли и в конце
концов в своем этом облегчении забыл, что маленькая сонатина написана в
соль-мажор и, следовательно, вначале обозначена фа-диезом, это означало, что
на протяжении какого-то времени нужно было не только бегать пальцами, как
это было удобно, по белым клавишам, но и в определенных местах, без
дополнительного указания в нотном тексте, нажимать на черную клавишу, а
именно фа-диез, который находился сразу же за соль. И вот когда в моей
партитуре впервые появился фа-диез, я не смог определить его как таковой,
быстро ударил пальцем рядом и сыграл вместо него просто фа, что, как это
сразу же поймет каждый музыкант, прозвучало очень неприятно.
При первой же небольшой трудности господин тут же бьет рядом! У тебя нет на
голове глаз? Фа-диез! Он изображен большой и отчетливый! Запомни это себе!
Еще раз с самого начала! Раз -- два -- три -- четыре...
я не могу объяснить по сей день. Вероятно, я так сильно думал о том, чтобы е
е не сделать, что после каждой ноты я предчувствовал фа-диез, а лучше всего
с самого начала играл бы лишь в фа-диез, и поэтому постоянно себя принуждал
фа-диез не играть, еще не фа-диез, еще нет... до... -- да, пока я на самом
деле в определенном месте снова не сыграл фа вместо фа-диез.
не знаешь, что такое фа-диез, деревянная твоя башка? Вот здесь! -- блям-блям
-- и она постучала своим указательным пальцем, конец которого за десятилетия
преподавания игры на пианино растолокся так широко, как монетка в десять
пфеннигов, по черной клавише прямо за фа. -- ... Э т о фа-диез!.. --
Блям-блям. -- ... Э т о ... -- И как раз на этом месте ей вдруг захотелось
чихнуть. Чихнула, быстро вытерла упомянутым указательным пальцем свои усы,
после чего еще два-три раза ударила по той же клавише, громко фыркая: -- Э т
о фадиез, э т о фа-диез!.. -- Затем вытащила из манжеты свой носовой платок
и высморкалась.
приклеилась большая, примерно с ноготь в длину, примерно с карандаш в
толщину, завернувшаяся, как червяк, отсвечивающая желто-зелеными тонами
порция слизисто-свежей сопли, происходящей явно из носа фройляйн Функель,
откуда она через чихание попала на усы, с усов после вытирания на
указательный палец и с указательного пальца на фа-диез.
-- три -- четыре... -- и мы снова начали играть.
всей моей жизни. Я чувствовал, как кровь отливает у меня от щек и по затылку
от страха течет пот. Волосы шевелились у меня на голове, уши мои попеременно
становились то горячими, то холодными., и наконец они оглохли, словно чем-то
забились, я едва слышал что-то из приятной мелодии Антона Диабелли, которую,
сам я совершенно механически и играл, не заглядывая в нотную тетрадь, пальцы
после второго повторения делали это сами по себе -- я только смотрел
расширившимися глазами на стройную черную клавишу, следующую за фа, на
которой приклеилась сопля Марии-Луизы Функель... еще семь тактов, еще
шесть... было невозможно нажать на эту клавишу, чтобы не попасть пальцем в
соплю... еще пять тактов, еще четыре... но если я не нажму, а в третий раз
сыграю фа вместо фа-диез, то... еще три такта -- о, милостивый Боже, сотвори
же чудо! Скажи что-нибудь! Сделай что-нибудь! Разверзни землю! Разбей
пианино в щепки! Поверни время вспять, чтобы мне не нужно было играть
фа-диез!.. еще два такта, еще один... и милостивый Боже молчал и ничего не
делал, и последний, самый ужасный такт наступил, он состоял -- я это помню
совершенно точно по сей день -- из шести восьмых, которые бежали от ре вниз
до фа-диез и заканчивались на четвертной ноте на находящейся над ними
соль... словно в преисподнюю скользили мои пальцы вниз по этой восьмерной
лестнице, ре -- до -- си -- ля -- соль... -- Теперь фа-диез! -- заорало
рядом со мной... И я, в полном понимании того, что я делаю, с полным
презрением к смерти, сыграл фа...
захлопнулась, и в тот же момент фроиляйн Функель подпрыгнула рядом со мной
вверх, как черт из коробки.
так пронзительно громко, что у меня, несмотря на навалившуюся глухоту,
зачесалось в ушах. Ты сделал это совершенно осознанно, ничтожный негодяй! Ты
сопляк плесневелый! Ты бесстыдный маленький засранец, ты...
который стоял посреди комнаты, с грохотом стуча кулаком после каждого
второго слова по крышке стола.
что я дам со мной так обходиться! Я позвоню твоей матери. Я позвоню твоему
отцу. Я потребую, чтобы ты получил такую взбучку, что не сможешь сидеть
целую неделю! Я потребую, чтобы ты три недели сидел дома и каждый день по
три часа учил тональности! соль-мажор и еше ре-мажор, и еще ля-мажор с
фа-диез, и до-диез, и соль-диез ровно столько, чтобы ты помнил это даже во
сне! Ты еще меня узнаешь, мальчишка! Ты еще меня... а лучше всего я бы тебя
прямо здесь... сама лично... собственными руками...
себя воздух, и лицо ее стало таким темно-красным, словно в последующее
мгновение она должна была лопнуть, нащупала наконец яблоко, которое лежало
перед ней в фруктовой вазе, взяла его оттуда и с такой злостью швырнула его
и стену, что оно превратилось там в коричневое пятно, слева возле часов с
маятником, чуть выше черепашьей головы ее старой матери.
что-то зашевелилось и из складок одежды выползла старческая рука, чтобы, как
автомат, поползти направо, к пирожным...
Она же распахнула дверь, прямой рукой показала на нее и каркнула: "Бери свои
вещи и исчезни!" -- и, когда я на нетвердых ногах вышел, с грохотом
захлопнула за мной дверь.
идти, не говоря уже о том, чтобы ехать. Дрожащими руками я закрепил ноты на
багажнике и потолкал велосипед рядом с собой. И пока я его толкал, в душе
моей роились самые мрачные предчувствия и мысли. Что ввергало меня в
беспокойство, что вводило меня в это доходящеее до мороза по коже волнение,
так это не проклятия фройляин Функель, не угрозы порки и домашнего ареста,
не страх перед чем-либо. Скорее всего это было возмутительное понимание
того, что весь мир был ничем иным, как единой, несправедливой, злой,
низменной подлостью. И вину за всю эту собачью подлость несли другие. А
именно -- все. Все вместе и без всяких исключений -- все остальные. Начиная
с моей матери, которая не купила мне приличный велосипед; моего отца,
который всегда с ней соглашался; моим братом и моей сестрой, которые
по-хамски смеялись над тем, что я был вынужден ездить на велосипеде стоя;
уродливой дворняжкой фрау доктора Хартлауб, которая всегда меня обижала;
пешеходами, которые перекрывали дорогу над озером так, что я из-за них
опаздывал; композтором Хесслером, который нагонял на меня тоску и мучил
своими фугами; фройляйн Функель, с ее лживыми обвинениями и ее противной
соплей на фа-диез... до самого милостивого Бога, который, когда в нем о д н
а ж д ы нуждались и молили его о помощи, не сделал ничего лучшего, как
погрузиться в трусливое молчание и позволить несправедливости развиваться
своим чередом. Зачем же мне вся эта сволочь, которая сговорилась против
меня? Какое мне дело до всего этого мира? В таком мире, полном
несправедливостей, я ничего не забыл. Пускай другие задыхакися в собственной
подлости! Пусть они размазывают свои сопли, где им угодно! Без меня! Я
больше не хочу играть в такие игры. Я скажу этому миру "адью". Я совершу
самоубийство. И прямо сейчас.
легко. Представление, что я всего лишь должен "расстаться с жизнью" -- как
называли это действие более благозвучно, -- чтобы уйти от всех этих
неприятностей и несправедливостей одним махом, было каким-то невероятно
утешительным и умиротворительным. Слезы перестали капать. Дрожь
прекратилась. В мире снова появилась надежда. Только это должно случиться
сразу же. Прямо сейчас. Пока я не передумал.
ведущую домой, а свернул с дороги вдоль озера направо, проехал по лесу,
поднялся на холм и поехал по тряской полевой дороге к дороге, по которой я
ходил из школы в направлении трансформаторной будки. Там стояло большое
дерево, которое я хорошо знал, могучая, старая красная ель. На это дерево я
и хотел взобраться и броситься с его верхушки вниз. Другой способ умереть
мне на ум не пришел. Я, правда, знал, что можно еще умереть, утонув,
зарезавшись, повесившись, задушившись или умереть от удара электрического
тока -- последний способ как-то мне специально рассказал мой брат. "Но для
этого тебе необходим нулевой провод, сказал он тогда, -- это плюс и минус, а


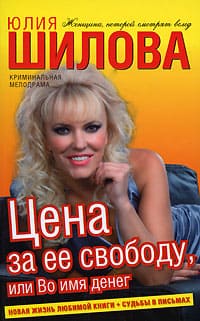
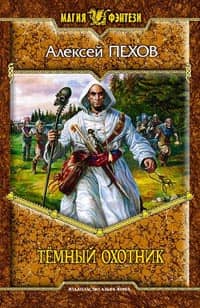


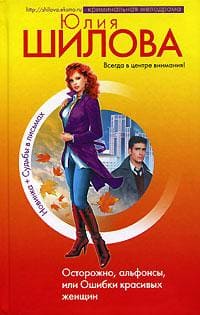 Шилова Юлия
Шилова Юлия Лондон Джек
Лондон Джек Курылев Олег
Курылев Олег Корнев Павел
Корнев Павел Прозоров Александр
Прозоров Александр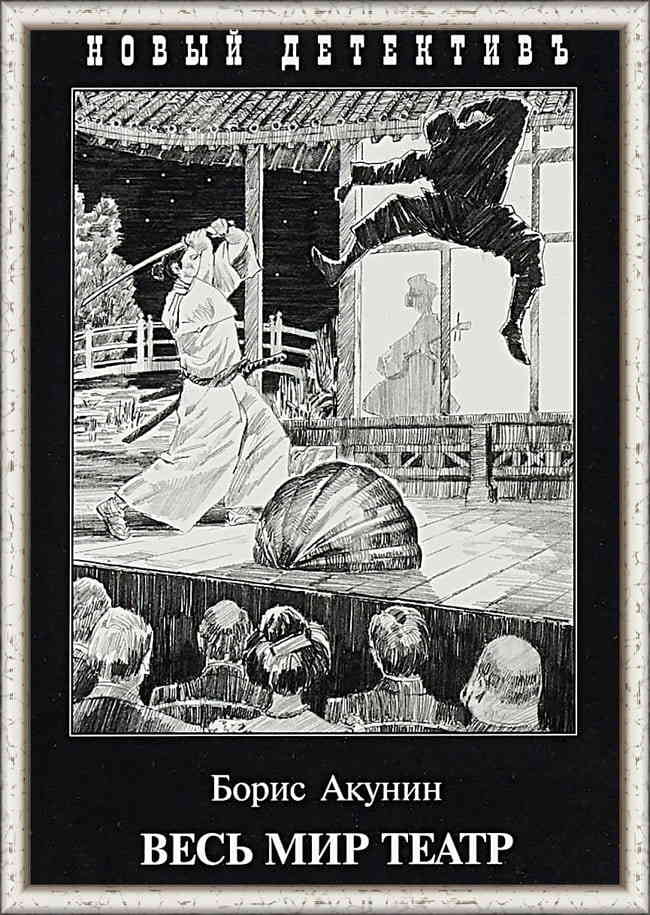 Акунин Борис
Акунин Борис