- Я тоже не знаю, - ответил Лок, но по его тону чувствовалось, что он
хитрит. - Может, карлы, может, великаны, но верней всего - люди.
- Нет, нет, Лок, ты уж говори все! - воскликнул Генрих. - Кто тут жил,
кто бывал, что это за руины, откуда тут валуны?
- Точно никто не знает, а говорят разное, - начал Лок. - Всей правды
нам уже не узнать. Что тут было при Карле-императоре или еще раньше, в
самые давние времена - сказать трудно. Лес был, вот и все. Люди тут не
жили.
- Так откуда же развалины?
- А это, может, строили не люди. Глядите, глыбы-то какие, и ни одного
окна нет.
Генрих внимательно осмотрел стену, у которой они сидели. Тэли
придвинулся к нему поближе. Князь обнял мальчика и прикрыл ему плечи полой
своего плаща.
- Может, дракон тут жил или премудрая волшебница Кундри, что одним
чародейским словом могла превратить любые камни в дворец. Или чернокнижник
Мерлин - у него еще была такая девица-красавица Вивиана... Да почем я
знаю! Одно ясно - кто-то здесь жил. И эти стены без крыши, - может,
остались они от древней кузницы, где Зигфрид свой меч ковал? Слышали,
верно, что жил в старину такой богатырь вырос он, не ведая страха, и
звали его Зигфрид. И вот, напророчили ему: ежели соблюдет он свою
невинность, то станет великим королем и добудет самый драгоценный камень,
какой есть на земле. А камень этот называется Грааль, и такой он тяжелый,
что поднять его может только двадцатилетний невинный юноша... Да разве где
найдешь парня в двадцать лет, чтобы невинность соблюл? Верно я говорю,
Герхо?
Но Герхо спал крепким сном.
- Вот взял Зигфрид меч, который выковал себе в этой кузнице, убил тем
мечом огромного дракона, в крови драконовой искупался да еще испил ее. А
тому, кто отведает проклятой драконовой крови, дается властью адовой
познание добра и зла. И Зигфрид, отведав той крови, узнал: должен он идти
воевать королевство Монсальваж. А королевство это, скажу я вам, невидимое,
и как его отыскать, никто не знал, даже Зигфрид, хотя он-то знал все. И
отправился он искать туда дорогу...
Тэли смотрел на рассказчика широко раскрытыми глазами, не смея
пошевельнуться. Генрих тоже не пропускал ни одного слова. Княгиня Саломея
строго-настрого запрещала его няньке Бильгильде, а потом и дядькам,
рассказывать детям сказки - все это, мол, измышления лукавого. И он
впервые слышал о Зигфриде, о Мерлине, о Граале.
- А сказывал мне об этом в замке Бергов один человек из королевской
свиты, да и сюда, в Цвифальтен, частенько приходят всякие сказители -
грехи замаливать. Подойдет такой вот старичок, а когда и старушка, к
твоему шалашу, закатит глаза - и пошел тараторить. Отправился, стало быть,
Зигфрид искать то королевство, и случилось так, что приглянулся он
волшебнице, - может, она-то и жила здесь? Звали ее Кундри, и была она
уродина, но могла превращаться в чудную красавицу. Она показала ему дорогу
на гору Монсальваж, а правил там король по имени Амфортас, и была у него
премерзостная язва. На заднице она была, потому как он - уж не обессудь,
князь, - тем местом весьма гнусно согрешал. Вот и угодили ему туда копьем,
и рана никак не заживала. Один только Зигфрид сумел ее залечить, а как,
того я не ведаю. Кундри потом святой стала и вышла за Зигфрида замуж, и
стал Зигфрид править в Монсальваже. Но тогда он уже не Зигфрид назывался,
а Парсифаль, и был у него сын Лоэнгрин (*43). Должно, он-то и был моим
предком - меня ведь тоже этим именем окрестили, да больно оно длинное.
Королю такое имя годится - хи, хи, хи! А пастуху никак, вот и зовут меня
покороче - Лок.
Наговорившись всласть, Лок поджал под себя ноги, укрылся столовой
плащом и быстро уснул. Генрих только хотел ему что-то сказать - старик уже
храпел. Герхо беспокойно ворочался, не выпуская копья, а Тэли повис всей
тяжестью на руке у князя. Генрих отстегнул нагрудную пряжку, снял с себя
плащ и бережно положил мальчика, завернутого в плащ, на плоские камни. Не
просыпаясь, Тэли укутался поплотней и свернулся клубком, как зверек.
Генрих остался наедине со своими мыслями.
Долго еще сидел он на камне, подбрасывая в костер хворост и глядя, как
пробиваются меж ветками языки пламени синеватые внизу, они подпрыгивали,
извивались, превращались в длинные золотые ленты, которые тянулись все
выше, выше, росли, как маленькие светящиеся деревца. Причудливая игра
огненных языков, их пляска, тихое шипенье завораживали. Генрихом овладело
первобытное влечение к огню, он не в силах был отвести глаз от костра.
Разные мысли приходили ему в голову, и он даже не пытался в них
разобраться, только шепотом повторял какие-то фразы из историй старого
Лока, словно сам был их участником и сидел у костра с королем Артуром, с
Магнусом, Харальдом или же Гунтером (*44) в его бургундском замке. А
может, и с самим Зигфридом в лесу? Но потом яркий огонь начал его
раздражать. Князь встал и отошел подальше, в тень, откуда костер казался
пурпурным кустом и виднелись частью освещенные стены, меж тем как все
вокруг тонуло в черноте ночи, холодной, сырой, туманной. Генрих отвернулся
от огня и вперил взор в этот непроглядный мрак, упиваясь его безмерностью,
покоряясь его могуществу. Потом сделал несколько шагов, остановился, снова
прошел немного - и вот он под четырехствольным дубом, трогает шершавую,
влажную кору. Опершись спиною о ствол, Генрих задумался. Пламя костра
постепенно угасало, багровые отсветы ходили по стене вверх и вниз, как
волны. Тишина была полная - ни ветерка, ни шороха в опавших сухих листьях.
И тут князю вдруг послышался настойчивый, страстный голос Агнессы от
одного этого воспоминания мурашки забегали у него по спине. "Корона!" -
говорила ему Агнесса, и костер средь бархатно-черного мрака ночи засверкал
перед ним, будто алмаз в короне. Глазам его представился золотой обруч с
лилиями, покоящийся на бархатной подушке, как описывала невестка.
Генрих удивился - с чего бы это вспомнились ему те слова Агнессы? И еще
другие, прозвучавшие как издевка: "Генрих, князь сандомирский!.." А за
ними возникли в памяти Рихенца, Верхослава, и из водоворота образов,
воспоминаний то и дело выплывал сияющий золотой обруч, который носили на
голове его двоюродный дед, и дед деда, и прадед деда, - племя великих,
могучих мужей! И он подумал, что Храбрый вершил свою волю и в Киеве, и на
Волыни, и в Праге, и в Будишине (*45), что кесарь намеревался сделать его
своим наместником - вот тогда, возможно, и стало бы едино стадо и един
пастырь, Пястович, король, император! И снова Генриху чудилась корона, о
которой говорила Агнесса.
Да, но Оттон уверяет, что у Кривоустого в краковском замке не могло
быть подлинной короны. Что все это было обманом зрения, просто
померещилось честолюбивой женщине, мечтавшей о короне, о мистическом
помазании, которое преображает человека, наделяет его даром творить
чудеса, - об этом высшем таинстве, которого удостаиваются лишь немногие.
Но где же тогда подлинная корона? Если ему, Генриху, суждено свершить то
самое, он должен обладать короной.
Ухватившись за эту мысль, он вдруг понял, что в душе уже давно решил
свершить то, о чем говорила Агнесса и что свершали его предки: он
завладеет знаком высшей земной власти и поможет краю, которым будет
править сам, без кесаря, идти к неведомому своему жребию. Ведь государства
тоже родятся, растут и стареют, выполняя свое назначение, которое
определено богом назначение же Генриха - быть орудием промысла божия, и
воля Генриха - быть королем польским.
В этот миг он понял самого себя и еще раз повторил последние слова -
огненными письменами запечатлелись они в его сердце, и невыразимый восторг
охватил его. Словно под бременем тяжкой ноши, Генрих пал ниц у подножья
языческого дуба на холодную землю, поросшую мхом, травой и усыпанную
сухими листьями. Он прикрыл лицо руками, как если бы ночь была
недостаточно темна, и, затаив, запрятав, схоронив в тайниках души эту
мысль, будто величайшую драгоценность, отдался блаженному чувству единения
с божеством. Тело его сотрясала дрожь, из уст рвались страстные мольбы.
Наконец он поднялся. Лосиный кафтан промок от росы и тумана, Генриху
стало зябко. Стуча зубами, он приблизился к костру, подбросил сучьев,
потом случайно взглянул на дверное отверстие и в страхе отшатнулся - на
пороге сидел человек, которого он в первую минуту не узнал. Но когда тот
заговорил, Генрих понял, что это всего лишь Оттон фон Штуццелинген.
- Меня послала сюда Гертруда, когда узнала, что ты хочешь заночевать на
урочище. Боится, не приключилось бы с тобой беды: здесь ведь нечисто, да и
лихорадку, говорит она, не мудрено захватить в этих местах.
Генрих молчал, он был еще под впечатлением недавнего душевного порыва,
говорить не хотелось. Внезапное появление Оттона изрядно его напугало -
точно выходец с того света явился нарушить его одиночество. О да, Гертруда
прислала монаха, чтобы тот отвлек его от дурных мыслей об отце, о братьях.
От холода и волнения Генриха бил озноб. Оттон протянул ему плащ на лисьем
меху - и об этом Гертруда позаботилась. Князь сел на валун напротив
порога, запахнул поплотнее плащ и стал смотреть на огненные султаны,
взвивавшиеся над корявым валежником. Оттон тоже молчал, с удивлением и
любопытством глядя на князя.
- При нашем дворе, - вдруг сказал Генрих, - не очень-то часто поминали
моего деда, Щедрого. Почему бы это?
- В столь давние тайны вашего рода я не посвящен. Знакомство мое с
делами Польского государства начинается лишь с княгини Саломеи и святого
Оттона Бамбергского... А о временах более далеких я знаю только
понаслышке. Когда ездил я на сейм в Ленчицу, когда сопровождал княгиню в
ее путешествиях по вашему краю, мне пришлось не одну ночь провести в
походном шатре. Бывало там холодно, неудобно, я долго не мог заснув и
коротал время в беседах со своими спутниками, а нередко и с вашими
польскими дворянами. Многое они мне рассказывали, да не знаю, что правда,
а что нет. Отец твой, говорили они, не любил, когда при нем вспоминали
Щедрого. Поэтому, наверно, ты мало слышал о деде, но король он был
могучий, хоть и своевольный. Государство сколотил крепкое, обручем золотым



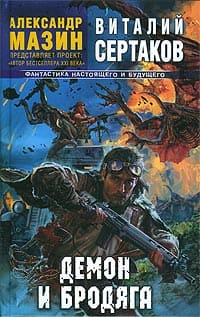
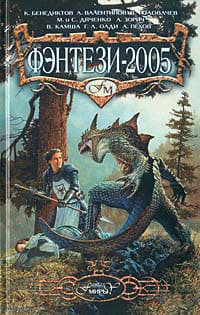

 Контровский Владимир
Контровский Владимир Панов Вадим
Панов Вадим Ильин Андрей
Ильин Андрей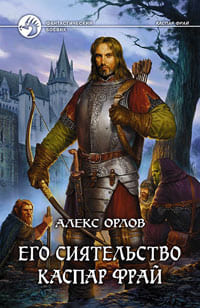 Орлов Алекс
Орлов Алекс Корнев Павел
Корнев Павел Самойлова Елена
Самойлова Елена