| АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ |
|
|
|
| АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ |
|
|
|
|
Глава одиннадцатая
УЖИН. "НЕ ОБО МНЕ РЕЧЬ"
Он еще спал, когда мы уходили, - Розалия Наумовна постелила ему в
столовой. Одеяло сползло, он спал в чистом нижнем белье, и Варя мимоходом
привычным движением поправила, подоткнула одеяло. Он дышал сквозь сжатые
зубы, между веками была видна полоска глазного яблока - уж такой Ромашов,
что его нельзя было спутать ни с одним Ромашовым на свете!
- Так - самый плохой? - шепотом спросила Варя.
- Да.
- А, по-моему, ничего.
- Ты сошла с ума!
- Честное слово - ничего. Ты думаешь, почему он так спит? У него
короткие веки.
Отчего мне казалось, что к вечеру Ромашов должен исчезнуть, как
виденье, принадлежащее той исчезнувшей ночи? Он не исчез. Я позвонила - и
не Розалия Наумовна, а он подошел к аппарату.
- Катя, мне необходимо поговорить с вами, - почтительным, твердым
голосом сказал он. - Когда вы вернетесь? Или разрешите приехать?
- Приезжайте.
- Но я боюсь, что в госпитале это будет неловко.
- Пожалуй. А домой я вернусь через несколько дней.
Он помолчал.
- Я понимаю, что у вас нет ни малейшего желания видеть меня. Но это
было так давно... Причина, по которой вы не хотели со мной встречаться...
- Ну, нет, не очень давно...
- Вы говорите об этом письме, которое я послал с доктором Павловым? -
спросил он живо. - Вы получили его?
Я не ответила.
- Простите меня.
Молчание.
- Это не случайно, что мы встретились. Я шел к вам. Я бросился в
подвал, потому что кто-то закричал, что в подвале остались дети. Но это не
имеет значения. Нам необходимо встретиться, потому что дело касается вас.
- Какое дело?
- Очень важное. Я вам все расскажу.
У меня сердце екнуло - точно я не знала, кто говорит со мной.
- Слушаю вас.
Теперь он замолчал и так надолго, что я чуть не повесила трубку.
- Хорошо, тогда не нужно. Я ухожу, и больше вы никогда не увидите
меня. Но клянусь...
Он прошептал еще что-то; мне представилось, как он стоит, сжав зубы,
прикрыв глаза, и тяжело дышит в трубку, и это молчание, отчаяние вдруг
убедили меня. Я сказала, что приду, и повесила трубку.
На столе стояли сыр и масло - вот что я увидела, когда, открыв
входную дверь своим ключом, остановилась на пороге столовой. Это было
невероятно - настоящий сыр, голландский, красный, и масло тоже настоящее,
может быть даже сливочное, в большой эмалированной кружке. Хлеб,
незнакомый, не ленинградский, был нарезан щедро, большими ломтями.
Кухонным ножом Ромашов открывал консервы, когда я вошла. Из мешка,
лежавшего на столе, торчала бутылка...
Растрепанная, счастливая Розалия Наумовна вышла из спальни.
- Катя, как вы думаете, что делать с Берточкой? - шепотом спросила
она. - Я могу ее пригласить?
- Не знаю.
- Боже мой, вы сердитесь? Но я только хотела узнать...
- Миша, - сказала я громко, - вот Розалия Наумовна просит меня
выяснить, может ли она пригласить к столу свою сестру Берту.
- Что за вопрос! Где она? Я сам ее приглашу.
- Вас она испугается, пожалуй.
Он неловко засмеялся.
- Прошу, прошу!
Это был очень веселый ужин. Бедная Розалия Наумовна дрожащими руками
готовила бутерброды и ела их с религиозным выражением. Берта шептала
что-то над каждым куском - маленькая, седая, с остреньким носиком, с
расплывающимся взглядом. Ромашов болтал не умолкая, - болтал и пил.
Вот когда я как следует рассмотрела его!
Мы не виделись несколько лет. Тогда он был довольно толст. В лице, в
корпусе, немного откинутом назад, начинала определяться солидность
полнеющего человека. Как все очень некрасивые люди, он старался тщательно,
даже щегольски одеваться.
Теперь он был тощ и костляв, перетянут новыми скрипящими ремнями,
одет и гимнастерку с двумя шпалами на петлицах, - неужели майор? Кости
черепа стали видны. В глазах, немигающих, широко открытых, появилось,
кажется, что-то новое - усталость?
- Я изменился, да? - спросил он, заметив, что я гляжу на него. -
Война перевернула меня. Все стало другим - душа и тело.
Если бы стало все другим, он бы не доложил мне об этом.
- Миша, откуда у вас столько добра? Украли?
Очевидно, он не расслышал последнего слова.
- Кушайте, кушайте! Я достану еще. Здесь все можно достать. Вы просто
не знаете.
- В самом деле?
- Да, да. Есть люди.
Не знаю, что он хотел сказать этими словами, но я невольно положила
свой бутерброд на тарелку.
- Вы давно в Ленинграде?
- Третий день. Меня перебросили из Москвы в распоряжение начальника
Военторга. Я был на Южном фронте. Попал в окружение и вырвался чудом.
Это было правдой, страшной для меня правдой, а я слушала его
небрежно, с давно забытым чувством власти над ним.
- Мы отступали к Киеву. Мы не знали, что Киев отрезан, - сказал он. -
Мы думали, что немцы черт знает где, а они встретили нас под Христиновкой,
в двухстах километрах от фронта. Сущий ад, - добавил он смеясь, - но об
этом потом. А сейчас я хотел сказать вам, что видел в Москве Николая
Антоныча. Как ни странно, он никуда не поехал.
- В самом деле? - сказала я равнодушно.
Мы помолчали.
- Вы, кажется, собирались поговорить о чем-то, Миша? Тогда пойдемте
ко мне.
Он встал и выпрямился. Вздохнул и поправил ремень.
- Да, пройдемте. Вы позволите взять с собой вино?
- Пожалуйста.
- Какое?
- Я не буду пить - какое хотите.
Он взял со стола бутылку, стаканы и, поблагодарив Розалию Наумовну,
прошел за мной. Мы уселись - я на диван, он у стола, который был когда-то
Сашиным и на котором так и стояли нетронутыми ее кисти в высоком бокале.
- Это длинный рассказ.
Он волновался. Я была спокойна.
- Очень длинный и... Вы курите?
- Нет.
- Многие женщины во время войны, стали курить.
- Да, многие. Меня ждут в госпитале. Вам дается ровно двадцать минут.
- Хорошо, - задумчиво, по слогам сказал Ромашов. - Вы знаете, что в
августе я уехал с Ленинградского фронта. Мне не хотелось уезжать, я
рассчитывал встретиться с вами. Но приказ есть приказ.
Саня часто повторял эту фразу, и мне неприятно было услышать ее от
Ромашова.
- Не буду рассказывать о том, как я попами на юг. Мы дрались под
Киевом и были разбиты.
Он сказал: "мы".
- В Христиновке я присоединился к санитарному эшелону, который шел в
обход Киева, на Умань. Это были обыкновенные теплушки, в которых лежали
раненые. Много тяжелых. Ехали три, четыре, пять дней, в жаре, в духоте, в
пыли...
Берта молилась в соседней комнате.
Он встал и нервно закрыл дверь.
- Я был контужен дня за два до того, как присоединился к эшелону.
Правда, легко - только по временам начинало покалывать левую сторону
тела. Она у меня буреет, - напряженно улыбнувшись, добавил Ромашов. - Еще
и теперь.
Варя, которая в ту ночь раздевала и одевала Ромашова, говорила, что у
него левая сторона обожжена; должно быть, это и было то, что он назвал
"буреет".
- И вот мне пришлось заняться хозяйством нашего эшелона. Прежде
всего, нежно было наладить питание, и я с гордостью могу сказать, что в
пути - мы ехали две недели - от голода ни один человек не умер. Но не обо
мне речь.
- О ком же?
- Две девушки, студентки Пединститута из Станислава, ехали с нами.
Они носили раненым еду, меняли повязки, делали все, что могли. И вот
однажды одна из них позвала меня к летчику - раненый летчик лежал в одной
из теплушек.
Ромашов налил вина.
- Я спросил девушек, что случилось. "Поговорите с ним!" - "О чем?" -
"Не хочет жить: говорит, что застрелится, плачет". Мы прошли к нему, - не
знаю, как получилось, что в этой теплушке я не был ни разу. Он лежал вниз
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 [ 109 ] 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
|
|




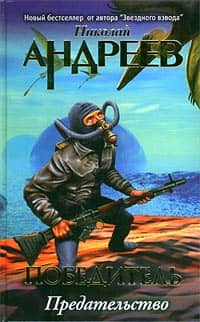

 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман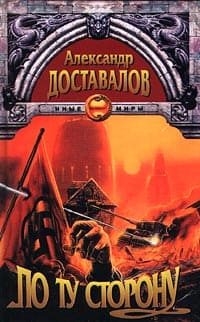 Доставалов Александр
Доставалов Александр Каменистый Артем
Каменистый Артем Василенко Иван
Василенко Иван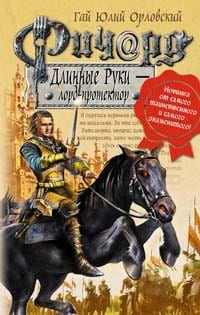 Орловский Гай Юлий
Орловский Гай Юлий Сертаков Виталий
Сертаков Виталий