прорвали еле сдерживаемое чувство.
Какое счастье, что на этом суденышке, слабом перед морем, у него был
защитник, человек, которого он когда-то - по дешевке, за мелкие услуги -
уговорил стать своим товарищем!.. Ведь всякий раз, встречаясь с Гришей,
Трощилов как бы мысленно отмыкал в нем потайной ящичек, где лежала его душа,
разъединенная с телом. В то время когда сам он был загнан, терпел насмешки,
изворачивался перед боцманом, готовый залезть от него хоть в рукавицу, душа
его, запрятанная в товарище, жила вольно, успокоенно, не знала нужды. Теперь
он выяснил, знал, почему остался: из-за Гриши...
насмешливо:
на койку в общежитие - домой! И даже этот бедолага, этот голый прут на
обочине, - туда же. Остальные, правда, опомнились, а он все никак.
взяли и ушли...
рубаху, обнажил шрам на животе. - Тебя убивали, Леник! И кто-то с тобой
возился, спас. А если б не стал спасать?
товарища! Ведь там, наверху, он что-то совершил, и хотя бежал с испугу к
Грише, но то, что случилось, - с ним. А Гриша оценивал его мысли, а не
действия.
больной или смерти ищешь, а я что-должен тебе? Ты лучше под меня не копай,
не копай! - проговорил он со страстью и умолк.
закономерное и не требующее доказательств, он все же был удивлен, что этот
слабоумный, который еле выучился сгребать мусор, восстал против их
командира! По-видимому, тут был какой-то особый случай помешательства, когда
больной сам не знал, что творил. Кажется, если б не земляк, не детдомовец,
если б стояли в другом месте, то взял бы его и придавил... И все-таки: что
это значит? К чему он подвел?
ножевое ранение...
как виноватый, не знал, что сказать. Но потом все воспротивилось против
напраслины, и, преодолев оцепенение, взброшенный каким-то внутренним
толчком, он ухватился за водолаза, на нем повис и начал трясти:
Гринь! Не смей этого... Не я это! Не я!..
убеждение, что ничего подобного не совершил, что Ковшеваров, с трудом
высвободившись, перед ним отступил:
выкрученный, не чувствуя ни ног, ни рук. Он знал, что отныне его дружба с
Гришей кончилась, что никогда не простит ему подозрения, не вынесет его... А
на берегу? Никогда не достать койки в "Моряке". Пойдешь на вокзал, на
площадь - и взяли. По морде, по чутью... Сколько его ловили в разных
городах, принимая за непойманного преступника, сколько приходилось
отсиживать в КПЗ: опознание, сверка личности - иди. В Мурманске, в Одессе,
во Владивостоке... Промелькнули города, где толкался без приюта, не
виновный, не виноватый, в то время, как другой, с синими глазами, мог себе
позволить все. Даже убить человека, как чуть не сделал сегодня. Или просто
посмотрит на девчонку - и нет ее. Вспомнил, как хотел повеситься, когда ушла
Танька: нашел веревку, какое-то бумажное мочало, тряпье... Что тонуть в
пароходе, всем вместе? Ты попробуй вот так, на задворках, среди вони,
бродячих кошек... Поползай! Только сердце стучит, стучит... Да ничего он не
боится - никакого "Шторма"! Просто не хочет, не надо ему, и все.
выметено, вымыто, никакой пыли. И в море не загрязнится! Как дожить до
поселка, до угля? Вдруг вспомнил что-то. Отправился искать боцмана. Тот был
в кладовке, расфасовывал простыни, отглаженные Катей.
Трощилов сейчас с такой страстью искал работу, с какой прежде отказывался от
нее. Такая резкая перемена, происшедшая с ним, скорее указывала на
отсутствие всяких перемен. Просто он пользовался работой, отрицая ее суть. И
хотя такой вот он Кутузова устраивал больше, но не всегда и не везде.
различить. А кровать? Что логово...
зеркало... И в то же время понимал сам: работа на высоте, со снастью -
качественно новая. Это все равно что перевод в другой класс. А как туда
перейдешь, если главное не то, что ты знаешь, а то, что надо чем-то
заслужить? Нет, все равно не жить...
целый квартал.
цепь, ударил о сапог:
рядами, а кружно, как бы захватывая их со всех сторон. Вид этих волн, почти
отвесных, но тихих, зловеще обагренных луной, его остановил.
работать, чтоб обо всем забыть и одновременно обо всем помнить. Так работать
он не умел и просто стоял, выжидая время, чтоб прилично соврать, если
спросят. Внезапно увидел каких-то птиц, похожих в этом освещении на зверей,
которые приближались, перемахивая с волны на волну... Как молния пронеслась
в сознании: с криком бросился назад, боясь, что закрыли дверь и он остался.
Шаров уже его ждал, впустил и выслушал - без упрека, с обычным для него
состраданием. Отправился на мачту сам, и так, словно пошел на рядовую
работу. Это открытие, как метлой, вымело из него прежние чувства. Все
растворилось в ощущении удобства, что он как уборщик, свободный от вахт,
имел право спать, ни о чем не заботясь, зная, что остальную работу выполнят
такие, как Шаров. Думая о том, как придут когда-нибудь домой, погружаясь в
стоны металла, в голоса катерков, снующих между громадных обшарпанных стен
доков, в эту милую воду с радугой масла и мазута, на какой-то момент
представил себя на высокой мачте с огоньком, чинящего снасть над волнами,
что могло произойти сегодня, по не произошло, и уже по сне заплакал, изливая
последнюю обиду на мир, на людей, на самого себя.
19
его настроением качало. И в то же время эти необычные, опьяняющие волны были
не только следствием пролетевшего настроения. Когда-то их описал Гомер в
знаменитом сне Одиссея, очарованного пением сирен. А потом научно объяснил
Ньютон своим законом приливообразующих сил Солнца и Лупы, придававших
круглому лицу Землн гримасу космического эллипсоида. Проще сказать,
наступила пора смены ветров, течений, перелетов птиц - то неустойчивое время
осеннего полнолуния, которому мореплавание обязано своими лучшими
открытиями.
линиями парусных судов, составленные на основании сноса и бутылочной



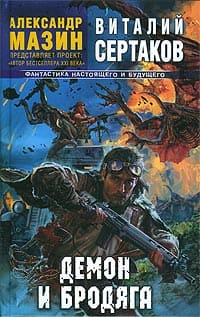
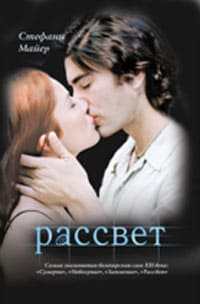
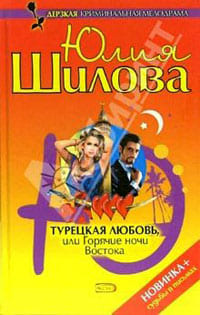
 Рыбаков Вячеслав
Рыбаков Вячеслав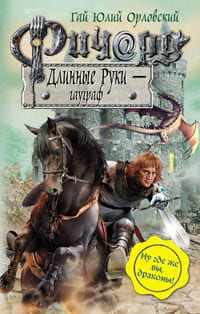 Орловский Гай Юлий
Орловский Гай Юлий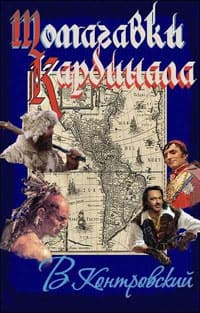 Контровский Владимир
Контровский Владимир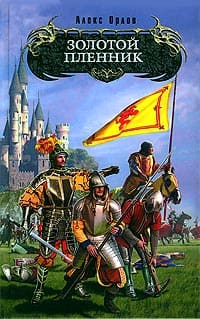 Орлов Алекс
Орлов Алекс Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Херберт Фрэнк
Херберт Фрэнк