пролетарская революция, чтоб было там хорошо, где мы...
послушайте!.. Ничего, они вернутся!.. Они вернутся работать, а не играть.
человечества имелся, послухам, еще один опасный враг. Это была банда
иогогонцев. Иогогонцы водились на Аткарской улице, на Петровской и
Саратовской. Атаманом у них был рыжий Васька Кандраш (Кандрашов), идейным же
шефом и вдохновителем состоял наш великовозрастный Биндюг-Мартыненко.
иогогонцев, с которым они обходили свои уличные владения.
педелю до того вечера, когда мы ушли. Их было человек пятнадцать. Они шли
тесной, настороженной толпой. Васька Кандраш вышел вперед, к столу Донны
Дины.
только поинтереснее. Буссенар Луи, например! Нет? А Пинкертон есть? Тоже
нет? Вот так библиотека советская, нечего сказать!
есть вещи гораздо интереснее. Вот, я вижу, вы парни боевые. А у нас каждый
читатель - хозяин библиотеки. Хотите быть "боевой дружиной порядка"? Будете
охранять порядок в читальне, нести караул у книжной выставки. А то у нас
разные хулиганы книги рвут и сорят. А я на вас надеюсь.
порядок? Иогогонцы опять застеснялись.
помещение? - накинулся он вдруг на своих. - Хворые, что ль, не можете
валенок обмести? Вон как навозили!..
там ноги. Потом они повесили свои шапки на вешалку.
настиг он меня, когда я проходил однажды мимо библиотеки. Биндюг считал меня
главным соблазнителем иогогонцев. Он сграбастал меня за лацкан шинели.
Разговор был краток:
Биндюга. Я вскочил и ринулся в омут драки. И меня приняли как своего.
не получал такой трепки. Я твердо знал, за что бьют Биндюга. Это был
настоящий и окончательный враг. Может быть, он и был парень-"гвоздь". Все
равно его надо было так. Линия, разделяющая мир на два лагеря, стала для
меня ясной. Биндюг был там. Я был здесь, с ребятами, к которым вернулся из
Швамбрании. Меня приняли в драку, и я бил Биндюга с огромным удовольствием.
Я лупил его от себя лично и за Степку. Я колошматил его, как беглый
швамбран, и дубасил, как матрос революции.
жестокой затрещины Биндюга. Оська встретил меня в передней.
Уральском нет... Телеграмма шла девять дней... Может быть, он уже...
("У-ра... у-ра... - и упали...") Мне дали воды, и я сам поднялся с пола. Две
недели потом мы ничего не знали об отце. Две недели мы не знали, как надо
говорить о нем: как о живом или как о покойнике.
с папой: в настоящем времени или уже в прошедшем.
Гавря Степан, искатель Атлантиды, и об этом говорили разное. Лабанда,
Володька Лабанда, рассказывал, что ему говорил один боец, будто захватили
Степку белые и сказали:
Степан, по прозванию Атлантида. Не увидит он меня матросом революции. Я не
выйду встречать его в латаных валенках, с прелой соломой в опухших руках, и
писать о нем дальше уже нечего.
вспухшим улицам. Дворы полны до края заборов, как мучные лари. Холодно.
Мглистое небо течет, цепляясь о трубы. На трубах небо навязло, как водяные
травы на сваях, и струится кизячными дымками. Холодно. Заносы осадили город.
Где-то в степи мерзнут санитарные поезда. И, может быть, отец.
подошел. Стал. Никто не выходил из вагонов... Это был поезд мертвых. Больные
померзли в дороге. Трупы складывали на перроне.
ребятами, разобрать книги, потолковать о сегодняшней газете. Но мне все еще
неловко показываться туда после разгрома Швамбрании. А что Швамбрания?
Львиное чучело, набитое трухой. Хлопушка без сюрприза. Даже Оське скучно уже
играть в нее.
подземелье. Отвратительная картина. Они, очевидно, все перехватили лишние
дозы эликсира. Филенкин валяется па полу. Жену швамбранского президента
Агриппину тошнит в углу. Только алхимик еще держится на табурете.
будешь веселый, как я...
нос. Да ведь это же... Ужасная догадка!.. Это самогон!
э-мюэ... собственной гонки... э-э... мой эликсир "Швамбрания"... Ваша
Швамбрания тоже... э-мюэ... самогон своего рода... Кустарная фантазия, мечта
собственной перегонки...
были помощниками самогонщика?.. Кустарная фантазия!.. Мечта собственной
перегонки!.. Совершенно удрученные, мы рано ложимся спать. Без мечты и
свистков. Сон, неуютный и рыхлый, как сугроб, принимает нас.
вскакиваю. Я слышу слабый голос отца. Жив!!! Его вводят по лестнице. Шаги
неуверенны, редки. Он желт и страшен, папа. Борода, огромная, как манишка,
лежит на груди. Он снимает шапку. Мама бросается к нему. Но он кричит:
поесть... Картошки бы...
картошку, греем кофе. Мы ставим на стол праздничную лампешку. Прямо пир
горой...
стучит мыло о папины кости. Через четверть часа нас зовут обратно. Папа, в
чистой рубахе, умытый и не такой уже страшный, рассказывает о фронте. Пока
он рассказывает о себе, он говорит спокойно. Кажется лишь, что непривычная
борода тяжелит речь. Но вдруг он начинает задыхаться от волнения. Он плачет:
моче... в три вершка... Я же врач... и я не могу...
комфортом. Он глядит на меня.
растаскали пролетариям...
можно в такое время корпеть над мелочами? Если бы вы видели, какие лица были
у наших, когда они гнали этих... Если бы вы...
Но тут я чувствую, словно какой-то пояс, стягивавший меня все это время,
словно этот пояс распустился. Я ощущаю, как у меня внезапно разрежается
дыхание. И, бросившись головой в подушку, я невыносимо глубоко и сладостно
плачу. Я плачу сразу и за папин сыпняк, и за свои волнения, и за уральских
красноармейцев, и за бедного Степку, и за самогонную обиду, и за многое еще
другое...
пойду в библиотеку.





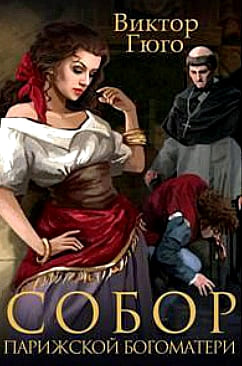
 Шилова Юлия
Шилова Юлия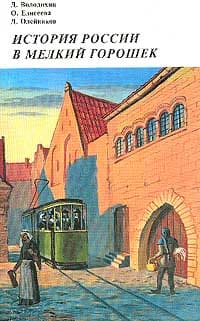 Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Никитин Юрий
Никитин Юрий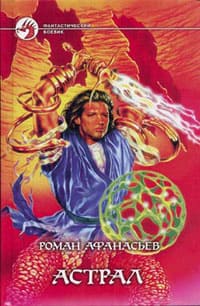 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Березин Федор
Березин Федор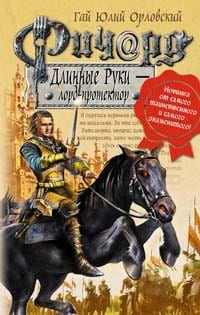 Орловский Гай Юлий
Орловский Гай Юлий