напомнив стихотворение, сочиненное мулатом, кажется "Поклонение волхвов", где
хвостатая звезда сравнивается со снопом.
внутренними дворами, зеленеющими сырыми газонами, окруженными аркадами с витыми
ренессансными мраморными колонками, студентам, собравшимся в тесном классе
славянского отделения,- ключик,- говорил я,- был человеком выдающимся. В
гимназии он всегда был первым учеником, круглым пятерочником, и если бы гимназия
не закрылась, его имя можно было бы прочесть на мраморной доске, среди золотых
медалистов, окончивших в разное время Ришельевскую гимназию, в том числе и
великого русского художника Михаила Врубеля.
доске золотом рядом с Врубелем.
Он совсем не был зубрилой. Науки давались ему легко и просто, на лету. Он был во
всем гениален, даже в тригонометрии, а в латинском языке превзошел самого
латиниста. Он был начитан, интеллигентен, умен. Единственным недостатком был его
малый рост, что, как известно, дурно влияет на характер и развивает честолюбие.
Люди небольшого роста, чувствуя как бы свою неполноценность, любят упоминать,
что Наполеон тоже был маленького роста. Ключика утешало, что Пушкин был невысок
ростом, о чем он довольно часто упоминал. Ключика также утешало, что Моцарт
ростом и сложением напоминал ребенка.
При маленьком росте ключик был коренаст, крепок, с крупной красивой головой с
шапкой кудрявых волос, причесанных а-ля Титус, по крайней мере в юности.
Какой-то пошляк в своих воспоминаниях, желая, видимо, показать свою
образованность, сравнил ключика с Бетховеном.
соль.
ключик был похож на слоненка: такой же широкий лоб, такие же глубоко сидящие,
почти детские глаза, ну а что касается хобота, то его не было. Был утиный нос.
Впрочем, это не очень бросалось в глаза и не портило впечатления. Таким он и
остался для меня на всю жизнь: слоненком. Ведь и любовь может быть слоненком!
ватными ступнями по комнатам хозяина зверинца. Не предлагай ему французских
булок, не предлагай ему кочней капустных, он может съесть лишь дольку мандарина,
кусочек сахара или конфету. Не плачь, о нежная, что в тесной клетке он сделается
посмеяньем черни"...
тот Великолепный, что когда-то пес к трепетному Риму Ганнибала".
страусовых перьях, па подступах к вечному Риму всемирной славы.
Едва сделавшись поэтом, он сразу же стал иметь дьявольский успех у женщин,
вернее у девушек - курсисток и гимназисток, постоянных посетительниц наших
литературных вечеров. Они окружали его, щебетали, называли уменьшительными
именами, разве только не предлагали ему с розовых ладошек дольку мандарина или
конфетку. Они его обожали. У него завязывались мимолетные платонические
романчики - предмет наших постоянных насмешек.
словам.
фиалок, пришпиленный к воротнику кротовой шубки, ключик называл Фиордализой.
- Я иду сегодня в Александровский парк на свиданье с Фиордализой,- говорил он,
слегка шепелявя, с польским акцентом.
Можно себе представить, как мы, его самые близкие друзья - птицелов и я,-
издевались над этой Фиордализой, хотя втайне и завидовали ключику.
западной. Одно время он был настолько увлечен Ростаном в переводе Щепкиной-
Куперник, что даже начал писать рифмованным шестистопным ямбом пьесу под
названием "Двор короля поэтов", явно подражая "Сирано де Бержераку".
Я думаю, что опус ключика рождался из наиболее полюбившейся ему строчки:
"...смотри,- по темным странам, среди миров, в полночной полумгле, течет звезда.
Ее Альдебараном живущие назвали на земле"...
написано все стихотворение.
Потом настало время Метерлинка. Некоторое время ключик носился с книгой,
кажется, Уолтера Патера, "Воображаемые портреты", очаровавшей его своей
раскованностью и метафоричностью. Зачитывался он также "Крестовым походом
детей", если не ошибаюсь Марселя Швоба. Всю жизнь ключик преклонялся перед
Эдгаром По, считал его величайшим писателем мира, что не мешало ему в то же
время очень ловко сочинять поэзы под Игоря Северянина, а позже даже восхищаться
песенками Вертинского; это тогда считалось признаком дурного тона, и совершенно
напрасно. Странность, которую я до сих пор не могу объяснить.
Ключик упорно настаивал, что Вертинский - выдающийся поэт, в доказательство чего
приводил строчку: "Аллилуйя, как синяя птица".
Самое поразительное было то, что впоследствии однажды сам неумолимый Командор
сказал мне, что считает Вертинского большим поэтом, а дождаться от Командора
такой оценки было делом нелегким.
подчинялся общему мнению, чаще всего ошибочному.
Увлекался ключик также и Уэллсом, которого считал не только родоначальником
целого громадного литературного направления, но также и великим художником,
несравненным изобразителем какой-то печально-волшебной Англии начала двадцатого
века, так не похожей на Англию Диккенса и вместо с тем на нее похожей.
Не знаю, заметили ли исследователи громадное влияние Уэллса-фантаста на
Командора, автора почти всегда фантастических поэм и "Бани" с ее машиной
времени.
Не говорю уж о постоянном, устойчивом влиянии на ключика Толстого н
Достоевского, как бы исключающих друг друга, но в то же время так прочно
слившихся в творчестве ключика.
Воздух, которым дышал ключик, всегда был перенасыщен поэзией Блока. Впрочем,
тогда, как и теперь, Блоку поклонялись все.
Однажды я прочитал ключику Бунина, в то время малоизвестного и почти никем не
признанного. Ключик поморщился. Но, видно, поэзии Бунина удалось проникнуть в
тайное тайных ключика; в один прекрасный день, вернувшись из деревни, где он жил
репетитором в доме степного помещика, ключик прочитал мне новое стихотворение
под названием "В степи", посвященное мне и написанное "под Бунина".
в огне, а по далеким хатам ползет, дымясь, сиреневый туман" - ну и так далее.
Это было скорее "под меня", чем "под Бунина", и, кажется, ключик больше никогда
не упражнялся в подобном роде, совершенно ему не свойственном: его гений
развивался по совсем другим законам.
Думаю, что влиял на ключика также и Станислав Пшибышевский - польский декадент,
имевший в то время большой успех. "Под Пшибышевского" ключик написал драму
"Маленькое сердце", которую однажды и разыграли поклонники его таланта на сцене
местного музыкального училища. Я был помощником режиссера, и в сцене, когда
некий "золотоволосый Антек" должен был застрелиться от любви к некой Ванде, я
должен был за кулисами выстрелить из настоящего револьвера в потолок. Но,
конечно, мой револьвер дал осечку и некоторое время "золотоволосый Антек"
растерянно вертел в руках бутафорский револьвер, время от времени неуверенно
прикладывая его то к виску, то к сердцу, а мой настоящий револьвер как нарочно
давал осечку за осечкой. Тогда я трахнул подвернувшимся табуретом по доскам
театрального пола. "Золотоволосый Антек", вздрогнув от неожиданности, поспешил
приложить бутафорский револьвер к сердцу и с некоторым опозданием упал под стол,
так что пьеса в конечном итоге закончилась благополучно, и публика была в
восторге, устроила ключику овацию, и он выходил несколько раз кланяться,
маленький, серенький, лобастенький слоненок, сияя славой, а я аккуратно дергал
за веревку, раздвигая и задвигая самодельный занавес.
Барышня, игравшая главную роль роковой женщины Ванды, помнится мне, выходя на
вызовы, на глазах у всех поцеловала ключику руку, что вызвало во мне жгучую
зависть. Барышня-гимназистка была очень хорошенькая.
"Черт возьми, везет же этому ключику! Что она в нем нашла, интересно? Пьеска так
себе, под Пшибышевского, декадентщина, а сам ключик просто серый слоненок!"
Вообще взаимная зависть крепче, чем любовь, всю жизнь привязывала нас друг к
другу начиная с юности.
Однажды ключик сказал мне, что не знает более сильного двигателя творчества, чем
зависть.
Я бы согласился с этим, если бы не считал, что есть еще более могучая сила:
любовь. Но не просто любовь, а любовь неразделенная, измена или просто любовь
неудачная, в особенности любовь ранняя, которая оставляет в сердце рубец на всю
жизнь.
В истоках творчества гения ищите измену или неразделенную любовь. Чем опаснее
нанесенная рана, тем гениальнее творения художника, приводящие его в конце
концов к самоуничтожению.
принимает другие, более скрытые, но не менее ужасные формы: дуэль Пушкина, уход
Толстого из Ясной Поляны.
Переживши рядом с ключиком лучшую часть нашей жизни, я имел возможность не
только наблюдать, но и участвовать в постоянных изменениях его гения, все время
толкавшего его в пропасть.
Я был так душевно с ним близок, что нанесенная ему некогда рана оставила шрам и
в моем сердце. Я был свидетелем его любовной драмы, как бы незримой для
окружающих: ключик был скрытен и самолюбив; он ничем не выдал своего отчаяния.
Идеалом женщины для него всегда была Настасья Филипповна из "Идиота" с ее
странной, неустроенной судьбой, с ее прекрасным, несколько скуластым лицом
мещанской красавицы, с ее чисто русской сумасшедшинкой.



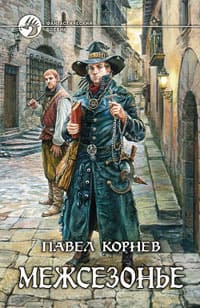


 Посняков Андрей
Посняков Андрей Андреев Николай
Андреев Николай Шилова Юлия
Шилова Юлия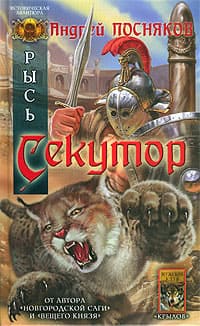 Посняков Андрей
Посняков Андрей Шилова Юлия
Шилова Юлия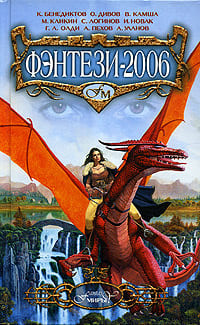 Пехов Алексей
Пехов Алексей