Каких только законов не написано, а русский, напроказивши, молит мир:
судите, братцы, вы меня не по книгам печатным, а по совести. И, почесав
затылки да покряхтев, мир зачинает тако судить. Закон -- прямолинеен и сух,
совесть же многообразна и сердечна, как людская жизнь, и народ верит ей, к
ней тянется, не ропщет, если даже наказание по совести превышает меру
закона, потому что мощь и крепость в совестливом суде, а жестокости нет.
народа русского. Особенно же осветила тех, кто по способу добывания хлеба
насущного, казалось бы, должен про совесть начисто забыть, ибо сытость их
испокон и по всем землям зиждется на удаче, выучке тела, крепости воли и
меча. Преудивительно совестлив на Руси воинский человек! Нет в нем той
собачьей преданности, когда и ворованное, и благоприобретенное одинаково
охраняется. Русский воинский человек всегда желал наперед знать: за правду
он заступит или за кривду? Воевал он всегда по необходимости, исходя из
государственного интереса. Конечно, случалось, ошибаясь, вставал не на ту
сторону, но, понуждаемый врожденной совестливостью, все-таки разбирался, что
к чему, прибивался к правому и уже стоял нерушимо, не смущаясь алтынным
звоном. Свидетельница тому -- история. Только читать ее надо совестливо, без
собачьей преданности хозяину, велящему читать выгодное. Почитаешь так, и как
на ладони русский воинский человек -- кровь от крови, плоть от плоти своего
народа, бескорыстный и добровольный.
будто жернов. Еропкин, как лягушка придавленная, лежал -- ни вдохнуть, ни
выдохнуть. Трепыхнулся раз-другой, но кисетец стал еще тяжелей, и круги
зеленые в глазах заходили, и треск послышался -- то ли кости хрустнули, то
ли лавка не выдержала бремени. По всему выходило -- настал конец. Еропкин
ногами засучил, руками задергал, подстегивая силы, оттягивая последний
вздох, и... вспомнил про романею. Молнией мысль сверкнула: не изопьет глоток
-- помрет. Последним усилием пошарил за пазухой, нащупал горлышко, вытянул
сулею, не поднимая головы, принялся лить вино в широко разинутый рот --
половина туда, половина на усы и бороду.
набрать воздуху, с третьим кисетец утерял смертный вес. Еропкин сел на
лавке, а когда выкушал глотков с двунадесят и потряс посудину, проверяя,
полна ли она, предсмертная мука повиделась сном минувшим, и вот вновь --
явь, воля вольная душу вольготит и маячит-манит удача. Вроде бы и не пьян
был, но чуял -- море ему по колено.
в бока и любуясь собой, загорланил так, что задрожали стены:
но ввалился в избу Пень.
зашлепал, не в силах больше слова вымолвить от возмущения.
растерянностью, обрел речь.
воздуху и будто в тулумбас забухал: -- Не положено петь! Петь только по
праздникам. Поющий в рабочее время -- тунеядец. На песню брать разрешение. У
меня. Допрежь всех я песню слушаю. В своем порядке я -- господин. Я не
позволю...
наемник, которому и правого, и виноватого одинако бить, абы ремесло
справлялось.
ногу выставил вперед, локти к бокам прижал -- приготовился к защите, Еропкин
же ударил под щиколотку. Пень грохнулся на пол. Еропкин сгреб его, вынес из
избы и, понатужась, кинул подальше.
принялся ощупывать голову, а Еропкин, вытянув из-за голенища нож-кончар,
тонкий, что шило, приставил к горлу поверженного.
сообщил с расстановкой. -- Другой раз без почтения явишься -- зарежу. А
теперь встань. Сполосни харю да к Смуру меня веди.
только гораздо обширнее -- три сруба, приставленные друг к другу, под общей
соломенной крышей. Справа располагалось пять жилищ поменьше, двухсрубных.
главенство сильного. -- Здесь Смур живет, там -- его сыновья.
действие, и он бодро зашагал к Смурову жилищу, словно казнь незамужних
женщин вполне обычное дело. Через плечо кинул сопевшему при ходьбе Пню:




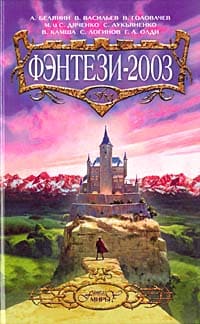

 Бажанов Олег
Бажанов Олег Грабб Джеф
Грабб Джеф Круз Андрей
Круз Андрей Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Шилова Юлия
Шилова Юлия Прозоров Александр
Прозоров Александр