прийти в отчаяние, если бы не сознался себе, что между ним и властями
разница в силах настолько чудовищна, что любой ложью и хитростью, на какие
он был способен, все равно изменить эту разницу хоть сколько-нибудь
существенно в свою пользу он никогда не смог бы. Впрочем, эти мысли служили
К. только для самоутешения, Шварцер по-прежнему оставался у него в долгу, и,
может быть, повредив ему тогда, он теперь мог бы ему помочь, а такая помощь
понадобится К. в любых мелочах, на первых же шагах -- вот и сейчас, когда и
Варнава, по-видимому, снова от него отступился.
для того чтобы не принимать его в комнате при Фриде, он все время работал в
саду, задержавшись там и после работы в ожидании Варнавы, но тот не пришел.
Теперь оставалось хоть на минутку зайти к его сестрам, хотя бы спросить с
порога и сразу вернуться назад. И, воткнув лопату в снег, он побежал бегом.
Задыхаясь, он добежал до дома Варнавы, коротко постучав, рванул дверь и, не
замечая, что делается в горнице, спросил: "А Варнава все еще не вернулся?"
-- и только тогда увидел, что Ольги нет, а старики снова сидят в другом
конце у стола в каком-то оцепенении, еще не понимая, что происходит у
дверей, они только медленно повернули головы; Амалия, лежавшая у печи под
одеялами, при появлении К. испуганно привскочила и, схватившись рукой за
лоб, словно старалась прийти в себя. Если бы Ольга была дома, она сразу
ответила бы на вопрос и К. смог бы тотчас же уйти, а тут ему пришлось
подойти к Амалии, протянуть ей руку, которую она молча пожала, и попросить
ее успокоить встревоженных родителей, удержать их на месте, что она и
сделала, бросив им несколько слов. К. узнал, что Ольга колет дрова во дворе,
Амалия очень устала -- она не сказала, по какой причине, -- и потому
прилегла, а Варнава хотя еще и не пришел, но скоро должен прийти, он никогда
не остается ночевать в Замке. К. поблагодарил за сведения, теперь ему можно
уйти. Но Амалия спросила, не хочет ли он подождать Ольгу, однако у него, к
сожалению, не было времени. Тогда Амалия спросила, говорил ли он уже сегодня
с Ольгой; он с удивлением ответил "нет" и спросил, хочет ли Ольга сообщить
ему что-нибудь особенное. Амалия с некоторым раздражением поджала губы,
молча кивнула К., явно желая с ним попрощаться, и снова улеглась. Лежа, она
оглядела его, словно удивляясь, что он еще тут. Взгляд у нее был холодный,
ясный, неподвижный, как всегда; и направлен этот взгляд был не прямо на то,
что она рассматривала, но скользил чуть-чуть, почти незаметно, однако
достаточно определенно мимо того, на что она смотрела; это очень мешало, и
казалось, что причиной тому была не слабость, не застенчивость, не
притворство, а постоянная, вытесняющая все другие чувства тяга к
одиночеству, которую она не скрывала. К. припомнил, что его как будто взгляд
ее удивил и в первый вечер, более того, все нехорошее впечатление, которое
на него тогда произвела эта семья, зависело от взгляда Амалии, хотя в самом
этом взгляде ничего плохого не было, он только выражал гордость и ясную в
своей откровенности отчужденность. "Ты всегда такая грустная, Амалия, --
сказал К. -- Что тебя мучает? Ты можешь рассказать? Никогда я еще не видел
такой деревенской девушки. Только сегодня, только сейчас мне это пришло в
голову. Ведь ты родом из Деревни? Ты родилась тут?" Амалия ответила
утвердительно, словно К. задал ей только последний вопрос, потом сказала:
"Значит, ты все же подождешь Ольгу?" "Не знаю, зачем ты все время
спрашиваешь одно и то же, -- сказал К. -- Остаться я не могу, меня дома ждет
невеста".
назвал имя. Амалия ее не знала. Она спросила, знает ли Ольга про обручение.
К. думал, что знает, ведь Ольга видела его с Фридой, и, кроме того, такие
вести быстро распространяются по Деревне. Однако Амалия уверила его, что
Ольга ничего не знает и что она будет очень несчастна, потому что она,
кажется, влюблена в К. Открыто она об этом не говорила, потому что она очень
сдержанная, но любовь всегда выдает себя невзначай. К. был уверен, что
Амалия ошибается. Амалия улыбнулась, и эта улыбка, хоть и печальная, озарила
ее мрачно нахмуренное лицо, превратила молчание в слова, отчужденность -- в
дружелюбие, словно открыв путь к тайне, открыв какое-то скрытое сокровище,
которое хотя и можно снова отнять, но уже не совсем. Амалия сказала, что она
не ошибается, больше того, ей хорошо известно, что и К. питает склонность к
Ольге и что, приходя сюда под предлогом ожидания каких-то известий от
Варнавы, он на самом деле приходит только ради Ольги. Но теперь, когда
Амалия все знает, он уже не должен себя ограничивать и может приходить чаще.
Только об этом она и хотела ему сказать. К. покачал головой и напомнил, что
он обручен. Но Амалия вовсе не хотела вникать в историю обручения, тут
решающим было непосредственное ее восприятие -- ведь К. пришел к ним один;
она только спросила, где К. познакомился с той девицей -- он же всего
несколько дней живет в Деревне. К. рассказал о вечере в гостинице, на что
Амалия коротко заметила, что она возражала против того, чтобы Ольга повела
его туда. И она призвала в свидетели саму Ольгу -- та вошла с вязанкой дров,
свежая, раскрасневшаяся от морозного воздуха, такая бодрая и сильная, словно
работа возродила ее после обычного тяжелого сидения в комнате. Она бросила
дрова, непринужденно поздоровалась с К. и сразу спросила про Фриду. К.
обменялся взглядом с Амалией, но та как будто не хотела сознаться, что
ошиблась. Слегка задетый таким отношением, К. стал рассказывать о Фриде
гораздо подробнее, чем собирался, описал, в каких трудных условиях она
старается вести хозяйство в школе, и так забылся, торопясь все рассказать --
ведь он хотел поскорее вернуться домой, -- что на прощание даже пригласил
обеих сестер к себе в гости. Конечно, он тут же с перепугу запнулся, в то
время как Амалия, не дав ему вымолвить больше ни слова, заявила, что
принимает приглашение; тут к ней невольно присоединилась и Ольга. Но мысль о
том, что нужно уйти как можно скорее, неотступно сверлила К., ему было
неспокойно от пристального взгляда Амалии, и потому он решился, не таясь,
сознаться, что пригласил он их необдуманно, из личной симпатии, но, к
сожалению, должен это отменить, так как между семьей Варнавы и Фридой
существует какая-то непонятная, но сильная вражда. "Вовсе это не вражда, --
сказала Амалия, встав с постели и отшвырнув одеяло, -- и не так уж это
серьезно, просто она подлаживается к общему мнению. А теперь уходи, иди к
своей невесте, я вижу, как ты торопишься. И не бойся, что мы придем в гости,
я с самого начала говорила об этом в шутку, со зла. Но ты можешь ходить к
нам чаще, тебе никто не помешает, а предлог у тебя найдется -- скажешь, что
ждешь вестей через Варнаву. А я тебе еще облегчу задачу, объяснив, что, если
Варнава даже и принесет для тебя какие-нибудь известия, все равно он не
сможет прийти в школу, чтобы тебе их передать. Не может он столько бегать,
бедняга, придется тебе самому прийти сюда и справиться". К. еще ни разу не
слыхал, чтобы Амалия так много и связно говорила, да и слова ее звучали
по-другому, было в них какое-то высокомерие, и это ощутил не только К., но и
Ольга, хотя она и привыкла к сестре. Ольга стояла в стороне, по-прежнему
неуклюже расставив ноги и слегка сутулясь; она не спускала глаз с Амалии,
смотревшей только на К. "Но ты ошибаешься, -- сказал К., -- ты сильно
ошибаешься, считая, что для меня ожидание Варнавы -- только предлог. Уладить
отношения с властями -- самое главное, да, в сущности, и единственное мое
желание. И в этом мне должен помочь Варнава, на него я возлагаю почти все
надежды. Правда, один раз он уже очень разочаровал меня, но тут я больше
виноват, чем он, потому что поначалу я был настолько сбит с толку, что
решил, будто все можно уладить просто небольшой прогулкой, а когда
выяснилось, как невозможно невозможное, я во всем обвинил его. Это повлияло
на меня даже в моем суждении о вашей семье, о вас. Все это прошло, мне
кажется, что я и вас теперь лучше понял, и вы... -- К. запнулся, ища
подходящее слово, но, найдя его не сразу, удовольствовался первым
попавшимся: -- Вы как будто гораздо доброжелательнее, чем другие жители
Деревни, насколько мне пришлось с ними сталкиваться. Но ты, Амалия, опять
сбиваешь меня с толку, хоть для тебя служба твоего брата что-то и значит, но
его значение для меня ты преуменьшаешь. Может быть, ты не посвящена в дела
Варнавы, тогда это хорошо, но, может быть, посвящена -- а у меня именно
такое впечатление, -- тогда это плохо, потому что тогда это значит, что твой
брат меня обманывает". "Успокойся, -- сказала Амалия. -- Ни во что я не
посвящена, я ни за что не соглашусь, чтобы меня посвящали в эти дела, ни за
что не соглашусь, даже ради тебя, хотя я многое для тебя готова сделать,
ведь, как ты сам сказал, мы люди доброжелательные. Но дела моего брата
только его и касаются, и знаю я о них только то, что случайно, против воли
где-нибудь услышу. Зато Ольга может дать тебе полный отчет, он ей все
поверяет". Тут Амалия отошла, пошепталась с родителями и вышла на кухню; она
даже не попрощалась с К., словно знала, что ему придется надолго тут
остаться и прощаться с ним не надо.
--------
потянула его к скамье у печки -- казалось, что она и вправду рада, что может
посидеть с ним вдвоем, но радость эта была тихой и, уж конечно, ничуть не
омрачена ревностью. Именно благодаря такому полному отсутствию ревности, а
потому и всякого напряжения К. почувствовал удовольствие; приятно было
смотреть в эти голубые глаза, не влекущие, не властные, а полные робкого
спокойствия, робкой настойчивости. Казалось, что все предостережения Фриды и
хозяйки не только не насторожили его, но заставили быть внимательнее ко
всему, что сейчас происходило, и разбираться лучше. И он рассмеялся вместе с
Ольгой, когда она спросила, почему он именно Амалию назвал доброжелательной,
у Амалии много качеств, но уж доброжелательности в ней нет. На это К.
возразил, что похвала, конечно, относится к ней, к Ольге, но Амалия такая
властная, что не только присваивает себе все хорошее, что говорится в ее
присутствии, но и каждый готов ей добровольно отдать пальму первенства. "Это
правда, -- сказала Ольга уже серьезнее, -- тут больше правды, чем ты
думаешь. Амалия моложе меня, моложе Варнавы, но в семье все решает она, и в
хорошем и в дурном; правда, ей приходится нести и хорошее и дурное больше,
чем другим". К. сказал, что это преувеличение, ведь только что Амалия сама



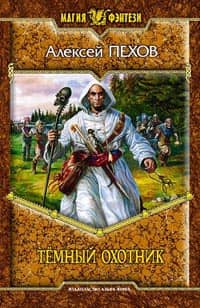
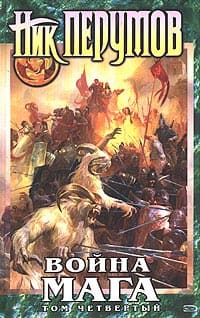

 Посняков Андрей
Посняков Андрей Афанасьев Роман
Афанасьев Роман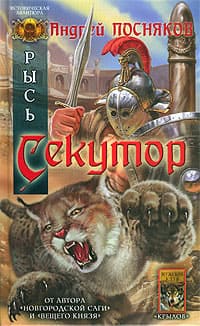 Посняков Андрей
Посняков Андрей Корнев Павел
Корнев Павел Посняков Андрей
Посняков Андрей Посняков Андрей
Посняков Андрей