совершенно в стороне. Он мал ростом, тщедушен, сосредоточен на себе, но что
особенно бросалось в глаза тем, кто его вообще замечал, так это его морщины,
их у него было множество, хотя ему, наверное, было не больше сорока, и все
они шли веером со лба к носу, я никогда в жизни ничего подобного не видела.
Ну вот, значит, наступил этот праздник. Мы с Амалией уже за несколько недель
радовались, переделали свои праздничные платья по-новому, особенно красивое
платье было у Амалии: белая блузка, спереди вся пышная, кружева на ней в
несколько рядов, матушка отдала ей все свои кружева, я ей тогда позавидовала
и проплакала полночи. Только тогда хозяйка постоялого двора "У моста" пришла
посмотреть на нас..." "Хозяйка "У моста"?" -- спросил К. "Да, -- сказала
Ольга, -- она тогда очень дружила с нами, вот она и пришла, признала, что
Амалия одета куда лучше меня, и, чтобы меня успокоить, одолжила мне свои
бусы из богемских гранатов. А когда мы уже были готовы и Амалия стояла
передо мной и все на нее залюбовались и отец сказал: "Наверное, Амалия
сегодня найдет жениха!" -- я вдруг, сама не знаю почему, сняла с себя бусы,
мою гордость, и уже без всякой зависти надела на Амалию. Я преклонялась
перед ее победой и считала, что все должны перед ней преклоняться; может
быть, всех нас поразило, что она выглядит совсем не так, как всегда, ведь, в
сущности, красивой ее назвать нельзя, но сумрачный взгляд, сохранившийся у
нее с тех пор, витал где-то высоко над нами и невольно заставлял и в самом
деле чуть ли не преклоняться перед ней. Это заметили все, даже Лаземан с
женой, которые пришли за нами". "Лаземан?" -- переспросил К. "Да, Лаземан,
-- сказала Ольга. -- Ведь мы были окружены почетом, и праздник, например,
без нас никак не мог бы начаться, потому что отец был третьим инструктором
пожарной команды". "Неужели отец тогда был еще настолько бодр?" -- спросил
К. "Отец? -- переспросила Ольга, словно не понимая. -- Да ведь три года
назад он был сравнительно молодым человеком -- например, во время пожара в
гостинице он вынес бегом на спине одного чиновника, Галатера, весьма
тяжелого человека. Я сама была при этом, правда, настоящего пожара не было,
только сухие дрова у печки занялись и задымили, но Галатер перепугался,
закричал из окна: "Помогите!", приехали пожарные, и отцу пришлось его
вынести, хотя огонь уже потушили. Но Галатер -- весьма неподвижный мужчина,
и в таких случаях ему приходилось соблюдать осторожность. Все это я
рассказываю только из-за отца, но с тех пор прошло не больше трех лет, а ты
посмотри, каким теперь он стал". Только тут К. увидел, что Амалия уже
вернулась в комнату, но она была далеко, около стола родителей, и там
кормила мать с ложки -- та из-за ревматизма не могла шевелить руками -- и
при этом уговаривала отца потерпеть с едой, сейчас она и к нему подойдет и
его тоже накормит. Но отец, не обращая внимания на ее уговоры, с жадностью
старался подобраться к супу, и, пересиливая свою слабость, он то пробовал
хлебать суп ложкой, то пить его прямо из тарелки и сердито ворчал, когда ему
ни то ни другое не удавалось: суп выливался, пока он подносил ложку ко рту,
а в суп попадали лишь его свисающие усы и брызги летели во все стороны,
только не ему в рот. "И до этого его довели за три года?" -- спросил К., все
еще испытывая к старикам и ко всему, что было у стола, не жалость, а
отвращение. "Да, за три года, -- сказала Ольга, -- вернее, за те несколько
часов, что длился праздник. Праздник шел на лугу, близ Деревни, у ручья;
когда мы пришли, была уже страшная давка, собралось много народу из соседних
деревень, от шума кружилась голова. Сначала, конечно, отец подвел нас к
новому насосу, он засмеялся от радости, когда увидел его, так он был
счастлив, что прислали новый насос, он стал его ощупывать и объяснять нам
его устройство, сердился, если другие вмешивались и перебивали его, а когда
ему хотелось показать нам что-то под насосом, он заставлял нас нагибаться и
чуть ли не залезать вниз, он даже отшлепал Варнаву, когда тот не захотел
лезть туда. Только Амалия никакого внимания на этот насос не обращала, она
стояла в своем красивом платье не двигаясь, и никто не смел сделать ей
замечание, иногда я подбегала к ней, брала ее под руку, но она молчала. Я до
сих пор никак не могу понять, почему вышло так, что мы долго стояли у
насоса, и, только когда отец наконец отошел, мы увидели Сортини, хотя он,
очевидно, все это время стоял позади насоса, прислонясь к рукоятке. Правда,
вокруг был ужасный шум, и не просто такой, какой всегда бывает на
праздниках. Дело в том, что из Замка прислали в подарок пожарникам еще и
несколько духовых инструментов, совсем особенных, из таких труб даже ребенок
без малейших усилий может извлекать самые дикие звуки, услышишь их -- и
кажется, что нагрянули турки, и привыкнуть к этой музыке было немыслимо, при
каждом звуке так и вздрагиваешь. И оттого, что трубы были новые, каждому
хотелось их попробовать, а раз это был народный праздник, то всем и
разрешали в них дуть. Вокруг нас теснилось несколько таких трубачей, может
быть, их привлекла Амалия, собраться с мыслями было просто невозможно, а тут
еще отец приказывал внимательно осматривать насос, оттого и Сортини,
которого мы раньше и не знали, так долго оставался для нас незамеченным.
"Вон стоит Сортини", -- шепнул наконец отцу Лаземан, я стояла рядом. Отец
низко поклонился и сделал нам знак -- поклониться Сортини. Отец хотя и не
знал его раньше, но глубоко уважал как знатока пожарного дела и часто
говорил об этом дома, потому для нас было большой неожиданностью и большим
событием, что мы вдруг увидали живого Сортини. Но Сортини не обратил на нас
внимания -- не по личной прихоти, а как все чиновники, он выказывал полное
безразличие к людям. Кроме того, он очень устал, и только служебный долг
удерживал его тут, внизу; иным представительство бывает в тягость, но это
вовсе не значит, что они -- из самых плохих чиновников; другие чиновники и
слуги, раз они пришли сюда, смешиваются с толпой, с народом, но Сортини
стоял у насоса, и всякого, кто пытался подойти к нему с какой-нибудь
просьбой или лестью, он отпугивал своим молчанием. Поэтому он нас заметил
еще позже, чем мы его. И только когда мы почтительно поклонились и отец стал
извиняться за нас, он посмотрел на нас, взглянул на всех по очереди усталыми
глазами; казалось, он вздыхает оттого, что мы подходим друг за другом, пока
его взгляд не остановился на Амалии, на которую ему пришлось поднять глаза,
потому что она куда выше его. Тут он опешил, перескочил через рукоятку
насоса, чтобы подойти поближе к Амалии, и мы, не разобрав, в чем дело, все,
во главе с отцом, двинулись было ему навстречу, но он остановил нас, подняв
руку, а потом махнул, чтобы мы уходили. Вот и все. Мы стали ужасно дразнить
Амалию, что она наконец нашла жениха, и очень веселились весь день, ничего
не подозревая. Но Амалия стала молчаливее, чем обычно. "Видно, она по уши
влюбилась в Сортини", -- сказал Брунсвик; ведь он человек грубый и таких
людей, как Амалия, никак не понимает; но на этот раз нам показалось, что он
почти прав, вообще мы весь день дурачились, и все, даже Амалия, были словно
оглушены сладким вином из Замка, когда за полночь вернулись домой". "А
Сортини?" -- спросил К. "Да, Сортини, -- сказала Ольга. -- Несколько раз я
видела Сортини мимоходом, во время праздника, он сидел на рукоятке насоса,
скрестив руки на груди, и не двигался, пока за ним не приехал экипаж из
Замка. Даже на маневры пожарных он не пошел, а наш отец, надеясь, что
Сортини на него смотрит, превзошел всех мужчин своего возраста". "И вы
больше о нем ничего не слышали? -- спросил К. -- Ведь ты, кажется, очень его
почитаешь?" "Да, почитаю, -- сказала Ольга, -- а услыхали мы о нем скоро. На
следующее утро нас, с похмелья, разбудил крик Амалии, все тут же заснули
снова, только я проснулась окончательно и подбежала к Амалии. Она стояла у
окна, держа в руках письмо -- его подал через окошко какой-то мужчина, он
ждал ответа. Амалия уже прочла письмо -- оно было короткое -- и держала его
в опущенной руке; я всегда любила ее, когда видела такой усталой! Я встала
на колени и прочла письмо. И только я успела его прочесть, как Амалия,
взглянув на меня, подняла руку с письмом, но не смогла заставить себя
перечитать его и разорвала на клочки, бросила в лицо мужчине, ждавшему за
окном, и захлопнула окошко. Это утро оказалось решающим. Я называю его
решающим, хотя весь предыдущий день, каждая его минута были не менее
решающими". "А что было в письме?" -- спросил К. "Да я же еще об этом ничего
не сказала, -- ответила Ольга, -- письмо было от Сортини, адресовано девушке
с гранатовыми бусами. Передать содержание я не в силах. Это было требование
явиться к нему в гостиницу, причем Амалия должна была идти туда немедленно,
так как через полчаса Сортини уезжал. Письмо было написано в самых гнусных
выражениях, я таких никогда и не слыхала и поняла их лишь наполовину, по
догадке. Кто не знал Амалии, тот, наверно, счел бы обесчещенной девушку,
которой смеют так писать, даже если бы до нее никто и не дотрагивался. И
письмо было не любовное, без единого ласкового слова, наоборот, Сортини явно
злился, что встреча с Амалией так его задела, оторвала от его обязанностей.
Мы потом сообразили, что Сортини, вероятно, хотел уже с вечера уехать в
Замок и только из-за Амалии остался в Деревне, а утром, рассердившись, что
ему и за ночь не удалось забыть Амалию, написал ей письмо. Такое письмо
возмутило бы любую девушку, даже самую хладнокровную, но потом, быть может,
другую, не похожую на Амалию, одолел бы страх из-за гневного, угрожающего
тона письма, а вот у Амалии оно вызвало только возмущение, страха она не
знает -- ни за себя, ни за других. И когда я снова забралась в кровать,
повторяя про себя отрывок фразы, которой кончалось письмо: "... и чтобы ты
немедленно явилась, не то..." -- Амалия все стояла у окна и выглядывала во
двор, словно ждала других посланцев и готова была со всеми обойтись как с
первым". "Так вот они какие, чиновники, -- нерешительно сказал К., --
значит, есть среди них и такие экземпляры. А что же сделал твой отец?
Надеюсь, он пожаловался на Сортини в соответствующие инстанции, если только
он не предпочел более короткий и верный путь -- прямо пойти в гостиницу. Но
самое отвратительное во всей этой истории совсем не обида, которую нанесли
Амалии, обиду легко исправить, не понимаю, почему ты именно этому придаешь
такое преувеличенное значение; почему это Сортини навек опозорил Амалию
своим письмом, а гак можно подумать по твоему рассказу, но ведь это
совершенно нелепо, и вовсе не трудно было добиться для Амалии полного
удовлетворения, и через два-три дня вся история была бы забыта; Сортини
вовсе не Амалию опозорил, а себя самого. И меня пугает именно Сортини,
пугает самая возможность такого злоупотребления властью. То, что не удалось
в этом случае, потому что было высказано слишком ясно и отчетливо и нашло у
Амалии решительный отпор, то в тысяче других случаев, при других менее
благоприятных обстоятельствах, могло бы вполне удаться, причем незаметно для
всех, даже для пострадавшей".






 Рыбаков Вячеслав
Рыбаков Вячеслав Акунин Борис
Акунин Борис Мороз Александра
Мороз Александра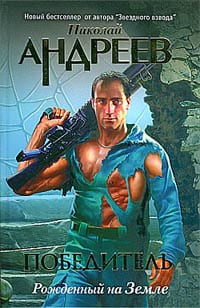 Андреев Николай
Андреев Николай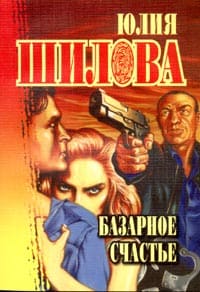 Шилова Юлия
Шилова Юлия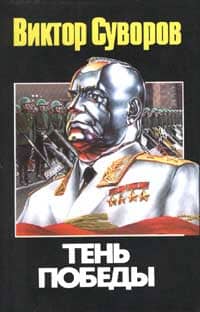 Суворов Виктор
Суворов Виктор