родителей и теперь стала раздевать мать; она только что развязала ей юбку,
закинула руки матери себе на шею, слегка приподняла ее, сняла с нее юбку и
осторожно посадила на место. Отец, всегда недовольный тем, что мать
обслуживали раньше, чем его, -- конечно, потому, что мать была гораздо
беспомощнее его, -- попытался раздеться сам, очевидно намереваясь попрекнуть
дочь за ее воображаемую медлительность, но, хотя он начал с самого легкого и
второстепенного, ему никак не удавалось снять громадные ночные туфли, в
которых болтались его ступни; хрипя и задыхаясь, он наконец отказался от
всяких попыток и снова застыл в своем кресле.
остальном ты прав, но самое важное то, что Амалия не пошла в гостиницу; то,
как она обошлась с посыльным, еще сошло бы, это можно было бы замять, но
тем, что она не пошла, она навлекла проклятие на нашу семью, а при этом и ее
обращение с посланцем сочли непростительным, более того, официально это
обвинение и было выдвинуто на первый план". "Как! -- крикнул К. и сразу
понизил голос, когда Ольга умоляюще подняла руку. -- Уж не хочешь ли ты, ее
сестра, сказать, что Амалия должна была послушаться Сортини и побежать к
нему в гостиницу?" "Нет, -- сказала Ольга, -- упаси меня бог от такого
подозрения, как ты мог даже подумать? Я не знаю человека, который во всех
своих поступках был бы более прав, чем Амалия. Правда, если бы она пошла в
гостиницу, я бы и тут оправдала ее, но то, что она туда не пошла, я считаю
ее геройством. Но насчет себя скажу тебе откровенно: если бы я получила
такое письмо, я пошла бы туда непременно. Я не вынесла бы страха перед тем,
что мне грозило, это могла только Амалия. Однако выходов было много: другая,
например, нарядилась бы, потратила на это какое-то время, потом отправилась
бы в гостиницу, а там узнала, что Сортини уже уехал, -- ведь могло быть и
так, что, отослав письмо, он тут же и уехал, это вполне возможно, у господ
настроение переменчивое. Но Амалия поступила иначе, совсем не так, слишком
сильно ее обидели, оттого она и ответила без раздумья. Но если бы она для
видимости послушалась и перешагнула бы тогда порог гостиницы, то можно было
избежать, отвести все обвинения, тут у нас есть умнейшие адвокаты, они умеют
любую мелочь употребить на пользу, но ведь в этом случае даже такой
благоприятной мелочи не было. Напротив, тут было и неуважение к письму
Сортини, и оскорбление посыльного". "Но при чем тут какие-то обвинения, при
чем тут адвокаты? Неужто из-за преступного поведения Сортини можно было в
чем-то обвинить Амалию?" "Конечно, можно, -- сказала Ольга. -- Разумеется,
не по суду, да и наказать ее непосредственно не наказывали, но все же и ее,
и всю нашу семью наказали другим способом, а насколько это наказание сурово,
ты, наверно, уже стал понимать. Тебе это кажется чудовищным и
несправедливым, но так во всей Деревне считаешь только ты единственный, для
нас такое мнение очень благоприятно, оно бы нас очень утешало, если бы не
покоилось на явных заблуждениях. Это я могу легко доказать тебе, извини,
если при этом я заговорю о Фриде, но между Фридой и Кламмом тоже вышла -- не
считая конечного результата -- очень похожая история, совсем как между
Амалией и Сортини, однако ты, хотя сначала и перепугался, теперь считаешь,
что все правильно. И это не значит, что ты ко всему привык, нельзя так
отупеть, чтобы ко всему привыкнуть. Производя оценку, ты просто
отказываешься от прежних ошибок". "Нет, Ольга, -- сказал К. -- Не понимаю,
зачем ты втягиваешь Фриду в это дело, там случай совсем другой, перестань
путать такие разные вещи и рассказывай дальше". "Прошу тебя, -- сказала
Ольга, -- не обижайся, если я буду настаивать на сравнении, ты все еще
заблуждаешься, и по отношению к Фриде тоже, когда думаешь, что надо защищать
ее, не позволяя никаких сопоставлений. Да ее и защищать не приходится, ее
надо хвалить. И если я сравниваю эти два случая, то вовсе не говорю, что они
похожи, они все равно что черное и белое, и белое тут -- Фрица. В худшем
случае над Фридой можно посмеяться -- я сама тогда, в пивном зале, так
невоспитанно смеялась и потом об этом жалела, впрочем, тут у нас если кто
смеется, значит, злорадствует или завидует, но все же нар ней можно
посмеяться. Но Амалию -- если ты только с ней кровно не связан -- можно
только презирать. Потому-то оба случая хоть и разные, как ты говоришь, но
вместе с тем они и похожи". "Нет, они не похожи, -- сказал К., недовольно
покачав головой. -- Оставь ты Фриду в покое. Фрида не получала таких милых
писулек, как Амалия от Сортини, и Фрида по-настоящему любила Кламма, а кто
не верит, пусть спросит у нее самой, она его и сейчас любит". "Да разве это
большая разница? -- спросила Ольга. -- Неужели, по-твоему, Кламм не мог
написать Фриде такое же письмо? Когда эти господа отрываются от своих
письменных столов, они все становятся такими, им никак не приладиться к
жизни, они тогда могут в рассеянности и нагрубить, правда не все, но многие.
Может быть, письмо к Амалии он набрасывал рассеянно, совершенно не размышляя
над тем, что выходило на бумаге. Откуда нам знать мысли господ? Разве ты сам
не слышал или тебе не рассказывали, каким тоном Кламм разговаривает с
Фридой? Всем известно, какой Кламм грубиян, говорят, что он часами молчит и
вдруг скажет такую грубость, что оторопь берет. Про Сортини ничего такого не
известно, потому что он сам никому не известен. В сущности, про него только
то и знают, что его имя похоже на имя Сордини, и, если бы не это сходство в
именах, его вообще никто не знал бы. Да и как специалиста по пожарному делу
его, наверно, тоже путают с Сордини, тот и есть настоящий специалист и сам
пользуется сходством их имен, чтобы свалить на Сортини представительские
обязанности, а самому спокойно работать. А когда у такого неопытного в
обыденной жизни человека, как Сортини, вдруг вспыхивает любовь к деревенской
девушке, чувство, конечно, принимает иную форму, чем когда влюбляется
какой-нибудь столяр-подмастерье. И кроме того, надо помнить, что между
чиновником и дочкой сапожника -- огромная пропасть и через нее надо как-то
перебросить мост, вот Сортини и пытался сделать это по-своему, другой, может
быть, поступил бы иначе. Правда, считается, что мы все принадлежим Замку, и
никакой пропасти нет, и никаких мостов строить не надо; может быть, в
обычных условиях это и так, но, к сожалению, у нас была возможность
убедиться, что, когда с этим столкнешься, все обстоит иначе. Во всяком
случае, теперь тебе поведение Сортини должно стать понятнее и не казаться
таким уж чудовищным, да это и на самом деле так; по сравнению с поведением
Кламма все куда понятнее, а заинтересованному лицу перенести его гораздо
легче. Если Кламм напишет самое нежное письмо, оно будет неприятней, чем
самое грубое письмо Сортини. Пойми меня правильно, ведь я не смею судить о
Кламме, я только их сравниваю оттого, что ты противишься всякому сравнению.
Ведь Кламм -- командир над женщинами, он приказывает то одной, то другой
явиться к нему, никого долго не терпит, и как приказал явиться, так
приказывает и убраться. Ах, да Кламм и труда себе не даст писать письма. И
неужто по сравнению с этим тебе еще кажется чудовищным, когда такой живущий
в полном уединении человек, как Сортини, чье отношение к женщинам вообще
никому не известно, вдруг садится и своим красивым чиновничьим почерком
пишет письмо, хотя и отвратительное. А если доказано, что Кламм ничуть не
лучше Сортини, а, скорее, наоборот, так неужели любовь Фриды может
что-нибудь изменить в пользу Кламма? Поверь, отношение женщин к чиновникам
определить очень трудно или, вернее, всегда очень легко. В любви тут
недостатка нет. Несчастной любви у чиновников не бывает. Поэтому ничего
похвального нет, если про девушку скажут -- и я говорю далеко не только о
Фриде, -- что она отдалась чиновнику только потому, что любила его. Да, она
его любила и отдалась ему, так оно и было, но хвалигь ее за это нечего. Но
Амалия-то не любила Сортини, скажешь ты. Ну да, она его не любила, а может
быть, и любила, кто разберет. Даже она сама не разберется. Как она может
решить, любила она или нет, когда она сразу его так оттолкнула, как еще ни
одного чиновника никогда не отталкивали? Варнава говорит, что ее и сейчас
иногда дрожь берет, стоит ей вспомнить, как она тогда, три года назад,
захлопнула окошко. И это правда, вот почему ее ни о чем нельзя спрашивать.
Она покончила с Сортини и больше ничего не знает, а любит она его или нет --
ей неизвестно. Но мы-то все знаем, что женщины не могут не любить
чиновников, когда те вдруг обратят на них внимание; более того, они уже
любят чиновников заранее, хоть и пытаются отнекиваться, а ведь Сортини не
только обратил внимание на Амалию -- он даже перепрыгнул через рукоять
насоса ногами, онемевшими от сидения за письменным столом, он перепрыгнул
через рукоять! Но, как ты сказал, Амалия -- исключение. Да, она это
подтвердила, когда отказалась пойти к Сортини. Уж это ли не исключение? Но
если бы она, кроме того, и не любила Сортини, то тут исключение стало бы из
ряда вон выходящим, это и понять было бы невозможно. Конечно, в тот день на
нас нашло какое-то затмение, но и тогда, словно в тумане, мы как будто
углядели в Амалии какую-то влюбленность, и это показывает, что мы хоть
немного, но соображаем. И если теперь все сопоставить, какая же разница
останется между Амалией и Фридой? Только та, что Фрида сделала то, от чего
Амалия отказалась". "Возможно, -- сказал К., -- но для меня главная разница
в том, что Фрида -- моя невеста, Амалия же в основном интересует меня только
потому, что приходится сестрой Варнаве, посыльному из Замка, и судьба ее,
быть может, связана со службой Варнавы. Если бы какой-то чиновник нанес ей
такую вопиющую обиду, как мне сначала показалось по твоему рассказу, меня бы
это очень затронуло, но и то больше как общественное явление, чем как личная
обида Амалии. Но теперь, по твоему же рассказу, картина совершенно
изменилась, правда не совсем для меня понятным образом. Тебе как рассказчику
я доверяю и потому охотно готов совсем пренебречь этой историей, тем более
что я не пожарник и меня Сортини никак не касается. А вот Фрида меня
касается, потому мне и странно, что ты, кому я так доверял и всегда готов
доверять, все время какими-то косвенными путями, ссылаясь на Амалию,
пытаешься нападать на Фриду, вызвать во мне подозрения. Не хочу думать, что
ты это делаешь с умыслом, тем более со злым умыслом, иначе мне давно
следовало бы уйти. Нет, тут у тебя никакого умысла нет, просто
обстоятельства тебя к этому вынуждают: из любви к Амалии ты хочешь возвысить
ее, вознести над всеми женщинами, а так как для этого ты в самой Амалии
ничего особо похвального найти не можешь, то выручаешь себя тем, что
принижаешь других женщин. Поступила Амалия всем на удивление, но чем больше
ты об этом поступке рассказываешь, тем труднее решить, значителен он или
ничтожен, умен или глуп, героичен или труслив, потому что Амалия глубоко в


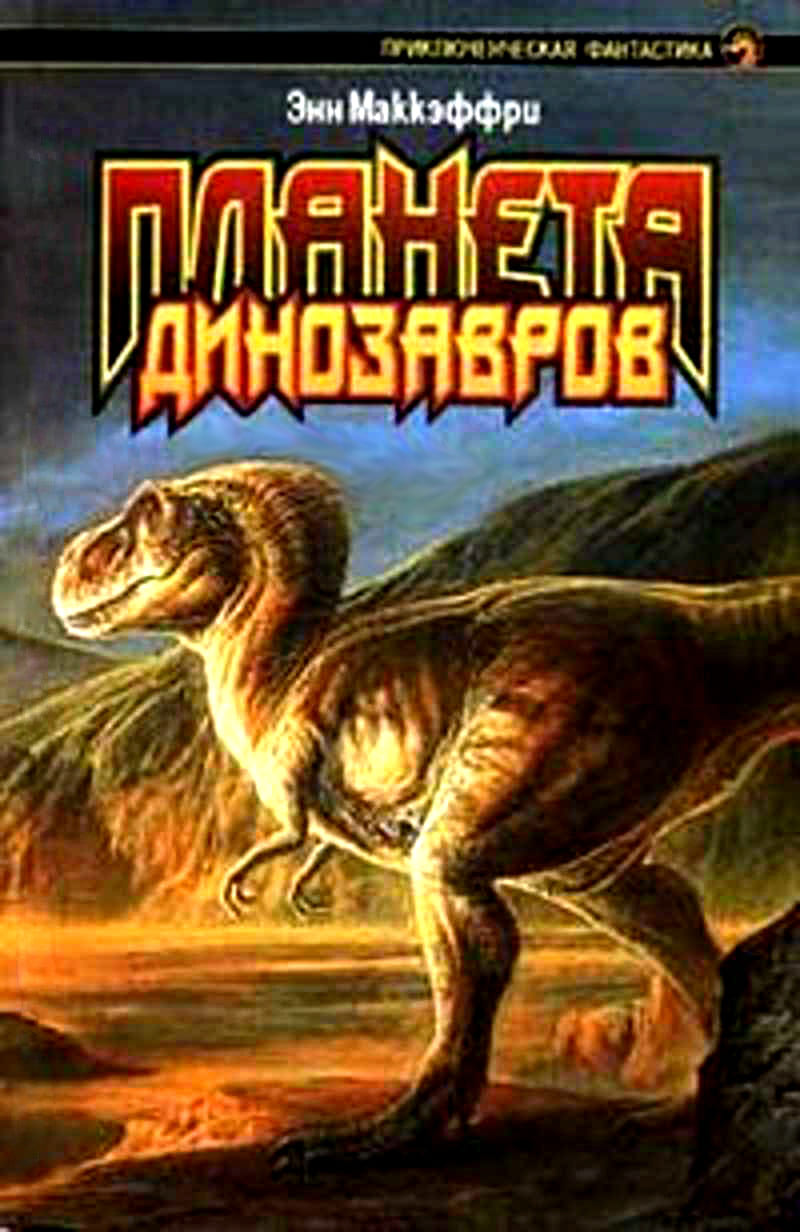

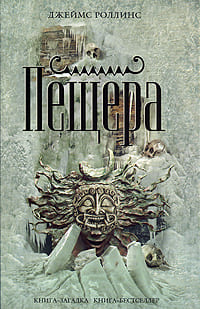

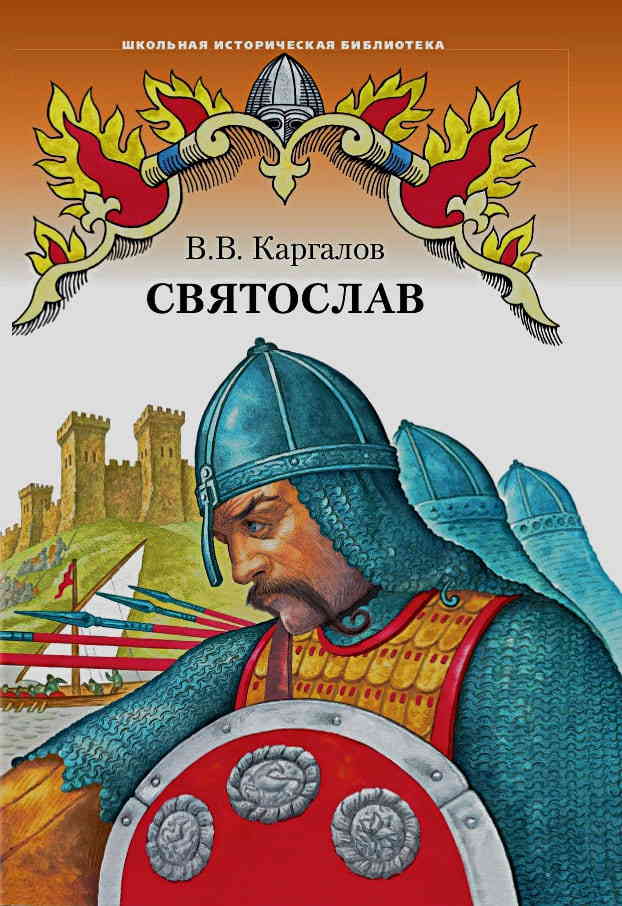 Каргалов Вадим
Каргалов Вадим Никитин Юрий
Никитин Юрий Контровский Владимир
Контровский Владимир Свержин Владимир
Свержин Владимир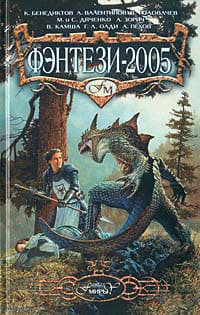 Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Мацумото Сэйте
Мацумото Сэйте