душе затаила причину своего поступка, никому у нее ничего не выведать. Фрида
же, напротив, ничего удивительного не сделала, она только последовала зову
сердца, что ясно всякому, кто подойдет к ее поступку доброжелательно, каждый
может это проверить, сплетням тут места нет. Но я-то не желаю ни унижать
Амалию, ни защищать Фриду, я только хочу тебе разъяснить, каковы наши с
Фридой отношения и почему всякое нападение на Фриду, всякая угроза Фриде
угрожает и моему существованию. Я прибыл сюда по доброй воле и по доброй
воле тут остался, но все, что произошло за это время, и особенно мои виды на
будущее -- хотя они и туманны, но имеются, -- всему этому я обязан Фриде,
чего и оспаривать никак нельзя. Меня, правда, приняли в качестве землемера,
но все это одна видимость, со мной ведут игру, меня гонят из всех домов, со
мной и сегодня ведут игру, но насколько теперь это делается обстоятельнее,
видимо, я для них стал чем-то более значительным, а это уже что-то значит,
теперь у меня есть хоть и невзрачный, но все же дом, служба, настоящая
работа, есть невеста, она берет на себя часть моих обязанностей, когда я
занят другими делами, я на ней собираюсь жениться, стать членом общины, у
меня кроме служебных отношений есть и личная, правда до сих пор не
использованная, связь с Кламмом. Разве этого мало? А когда я прихожу к вам,
кого вы приветствуете? Кому рассказываете историю своей семьи? От кого ты
ждешь возможности, пусть мизерной, пусть маловероятной, возможности получить
какую-нибудь помощь? Уж конечно, не от меня, того самого землемера,
которого, например, еще неделю тому назад Лаземан и Брунсвик силой вынудили
покинуть их дом, нет, ты надеешься на помощь человека, который уже в
состоянии что-то сделать, а этим я обязан Фриде, Фриде настолько скромной,
что попробуй спроси ее, так ли это, и она наверняка скажет, что знать ничего
не знает. И все же выходит, что Фрида в своем неведении больше сделала, чем
Амалия при всей своей гордости: видишь ли, мне кажется, что помощи ты ищешь
для Амалии. И у кого же? Да, в сущности, разве не у той же Фриды?" "Неужто я
так нехорошо говорила о Фриде? -- сказала Ольга. -- Я вовсе этого не хотела,
думаю, что и не говорила, хотя все возможно, ведь положение у нас такое, что
мы со всем светом в раздоре, а начнешь жаловаться -- и тебя заносит бог
знает куда. Конечно, ты и в этом прав, теперь между нами и Фридой огромная
разница, и ты правильно подчеркнул это еще раз. Три года назад мы были
дочками бюргера, а Фрида -- сиротой, служанкой в трактире, мы проходили
мимо, даже не глядя на нее; конечно, мы вели себя слишком высокомерно, но
так нас воспитали. Однако в тот вечер, в гостинице, ты уж мог заметить,
какие теперь сложились отношения: Фрида с хлыстом в руках, а я -- в толпе
слуг. Но дело обстоит еще хуже. Фрида может нас презирать, это соответствует
ее положению, это вызвано теперешними обстоятельствами. Но кто нас только не
презирает? Те, кто решает презирать нас, сразу попадают в высшее общество.
Знаешь ли ты преемницу Фриды? Ее зовут Пепи. Только позавчера вечером я с
ней познакомилась, раньше она служила горничной. Так вот, она превзошла
Фриду в презрении ко мне. Она увидела в окно, что я иду за пивом, побежала к
двери и заперлась на ключ, мне пришлось долго просить ее, обещать ей ленту,
которой я завязываю косу, пока она наконец не открыла мне. А когда я ей
отдала эту ленту, она швырнула ее в угол. Что ж, пусть презирает меня,
все-таки я как-то завишу от ее хорошего отношения и она работает в буфете
гостиницы, правда только временно, нет в ней тех качеств, которые нужны для
постоянной службы. Достаточно послушать, как хозяин разговаривает с этой
Пепи, и сравнить, как он разговаривал с Фридой. Но это вовсе не мешает Пепи
презирать Амалию, ту Амалию, от одного взгляда которой эта самая Пепи со
всеми своими косичками и бантиками вылетела бы из комнаты во сто раз скорей,
чем ее могли бы унести ее толстые ноги. А какую возмутительную болтовню про
Амалию мне пришлось снова выслушать от нее вчера вечером, пока посетители не
вступились за меня, хоть и вступились они так, как ты тогда вечером видел".
"До чего ты напугана, -- сказал К. -- Ведь я только поставил Фриду на
подобающее ей место, но вовсе не собирался вас принижать, как ты себе
представляешь. Конечно, и я чувствую в вашей семье что-то необычное, но
почему это может стать поводом к презрению -- я не понимаю". "Ах, К., --
сказала Ольга, -- боюсь, что ты еще поймешь почему. Неужели тебе никак не
понятно, что поступок Амалии был причиной того, что все стали презирать
нас?" "Это было бы слишком странно, -- сказал К. -- Можно восхищаться
Амалией или осуждать ее, но презирать? А если даже по непонятным мне
причинам Амалию действительно презирают, то почему же это презрение
распространяется на всех вас, на вашу ни в чем не повинную семью? То, что
тебя, например, презирает Пепи, -- просто безобразие, и, если я когда-нибудь
попаду в ту гостиницу, я ее проучу!" "Нелегкая была бы у тебя работа, К., --
сказала Ольга, -- если бы ты взялся переубеждать всех, кто нас презирает,
ведь все исходит из Замка. Мне хорошо помнится утро следующего дня. Брунсвик
-- он тогда был у нас подмастерьем -- пришел, как всегда, отец выдал ему
работу и отправил его домой, и все сели завтракать, мы с Амалией тоже, нам
было весело, отец, не умолкая, рассказывал о празднике, у него были всякие
планы насчет пожарной дружины, ведь в Замке своя пожарная дружина, они
прислали на этот праздник и свою команду, с ними вели всякие переговоры, а
господа, присутствовавшие там, видели учения нашей команды и очень лестно
отозвались о ней, сравнивали с выступлением команды из Замка, и сравнение
было в нашу пользу, начался разговор о реорганизации команды из Замка, им
понадобились бы инструкторы из Деревни, тут речь пошла о нескольких людях,
но отец понадеялся, что выбор падет на него. Об этом он и рассказывал, и по
своей добродушной привычке -- рассиживаться за столом -- он сидел, раскинув
руки, обхватив стол за всю ширь, и, когда он подымал глаза к окну и смотрел
в небо, лицо у него было такое молодое, такое радостное и полное надежды,
каким мне с тех пор уже не суждено было видеть его. И тут Амалия с
непривычной для нее сосредоточенностью сказала, что господским речам
особенно доверять не стоит, в подобных обстоятельствах господа любят
говорить что-нибудь приятное, но все это имеет мало значения или вовсе
ничего не значит, они только скажут и тут же забудут навсегда, правда, в
следующий раз можно попасться на эту же приманку. Мать запретила ей такие
разговоры, отец посмеялся над ее скороспелыми мудрствованиями, но вдруг
запнулся, казалось, он что-то ищет, словно вдруг чего-то хватился, но тут же
вспомнил: Брунсвик ему рассказывал про какого-то посыльного, про какое-то
разорванное письмо, и отец спросил, знаем ли мы об этом, и кого это
касается, и что произошло. Мы промолчали. Варнава -- он тогда был проказлив,
как молодой барашек, -- сказал что-то совершенно глупое или дерзкое, мы
заговорили о другом, и все позабылось".
--------
стали приходить друзья и враги, знакомые и чужие, но никто не задерживался,
и лучшие друзья больше всех торопились распрощаться. Лаземан, обычно такой
медлительный и важный, вошел, как будто хотел проверить, какого размера наша
комната, окинул ее взглядом, и все похоже было на страшную детскую игру,
когда Лаземан стал уходить, а отец, отмахиваясь от обступивших его людей,
поспешил было за ним до порога и потом остановился. Пришел Брунсвик и
отказался от работы, сказал совершенно честно, что хочет работать
самостоятельно. Умная голова, сумел использовать подходящий момент.
Приходили заказчики, выискивали у отца в кладовой свою обувь, которую отдали
ему в починку; сначала отец пробовал отговаривать заказчиков -- и мы его
поддерживали, как могли, -- но потом он отступился и молча помогал людям
разыскивать обувь, в книге заказов вычеркивалась строчка за строчкой, запасы
кожи, сданные нам, выдавались обратно, долги выплачивались, все шло без
малейших пререканий, все были довольны, что удалось так быстро и навсегда
порвать отношения с нами, и даже если кто-то терпел убыток, это ни во что не
ставилось. И наконец, как можно было предвидеть, появился Зееман, начальник
пожарной дружины, вижу, как сейчас, всю эту сцену: Зееман, огромный,
сильный, но слегка сгорбленный, из-за болезни легких, всегда серьезный -- он
совсем не умел смеяться, -- стоит перед моим отцом, которым он вечно
восхищался и даже в дружеской беседе обещал ему должность заместителя
начальника пожарной дружины, а теперь пришел объявить, что дружина
освобождает его и просит вернуть диплом пожарника. Все, кто был в нашем
доме, побросали свои дела и столпились вокруг этих двух мужчин. Зееман не
может выговорить ни слова, только все похлопывает отца по плечу, будто хочет
выколотить из него те слова, какие он сам должен сказать, но найти не может.
При этом он все время смеется -- видно, хочет этим успокоить и себя, и всех
других, но, так как он смеяться не умеет и люди никогда не слышали, чтобы он
смеялся, никому и в голову не приходит, что это смех. А наш отец за этот
день уж так устал, так расстроился, что ничем помочь не может, и кажется,
что он до того утомился, что вообще не соображает, что тут происходит. И все
мы тоже были расстроены не меньше его, но по молодости мы никак не могли
поверить в полный крах, мы все время думали, что среди посетителей наконец
найдется человек, который прикажет всем остановиться и повернет все обратно.
Нам, по нашему недомыслию, казалось, что Зееман особенно подходит для такой
роли. С напряжением ждали мы, что сквозь этот непрестанный смех наконец
прорвется разумное слово. Над чем же и можно было смеяться, как не над
глупейшей несправедливостью по отношению к нам. Господин начальник, господин
начальник, думали мы, да скажите же вы наконец этим людям все, и мы
теснились поближе к нему, но от этого он только нелепо топтался на месте.
Наконец он все-таки заговорил, хотя и не для исполнения наших тайных
желаний, а повинуясь подбодряющим или недовольным возгласам окружающих. Мы
все еще надеялись на него. Он начал с высоких похвал отцу. Он назвал его
украшением дружины, недосягаемым примером для потомков, незаменимым членом
общества, чья отставка пагубно отзовется на дружине. Все было бы прекрасно,
если б он на этом закончил! Но он продолжал говорить. Если теперь члены
дружины все же решились просить отца, конечно временно, уйти в отставку, то
надо понять серьезность причин, заставивших их сделать это. Если бы не
блестящие достижения отца на вчерашнем празднике, дело не зашло бы так
далеко, но именно эти его блестящие достижения особенно привлекли к нему


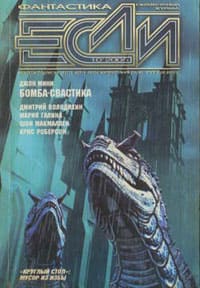


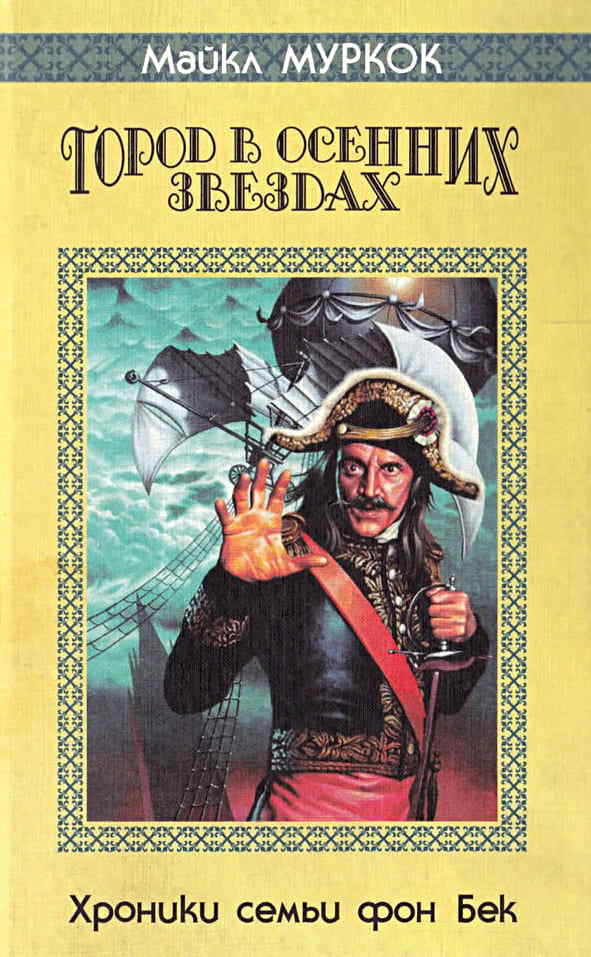
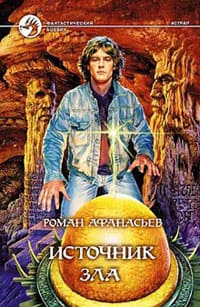 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Суворов Виктор
Суворов Виктор Майер Стефани
Майер Стефани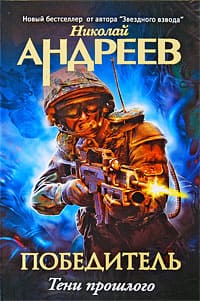 Андреев Николай
Андреев Николай Буркатовский Сергей
Буркатовский Сергей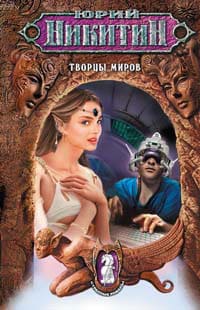 Никитин Юрий
Никитин Юрий