уже знал, что беспечной жизни, ожидавшей его сверстников, ему уже не видать,
и мы сидели вдвоем -- точно так же, как сейчас с тобой, К., -- не замечая,
как проходила ночь и наступало утро. Мать была самой слабой из нас, должно
быть потому, что она не только делила общее горе, но и страдала за каждого
из нас, и мы со страхом видели в ней те изменения, которые, как мы
предчувствовали, ждут всю нашу семью. Любимым ее местом был уголок дивана --
теперь этого дивана давно уже у нас нет, он стоит в большой горнице у
Брунсвика, -- она сидела там, и мы хорошенько не знали, спит она или, судя
по движению губ, ведет сама с собой бесконечные разговоры. Было вполне
естественно, что мы непрестанно обсуждали историю с письмом, вдоль и
поперек, со всеми известными нам подробностями и неизвестными последствиями,
и, непрестанно соревнуясь друг с другом, придумывали, каким путем
благополучно все разрешить, это было естественно и неизбежно, но и вредно,
потому что мы без конца углублялись в то, о чем хотели позабыть. Да и какая
польза была от наших, хотя бы и блестящих, планов? Ни один из них нельзя
было выполнить без Амалии, все это была лишь подготовка, бессмысленная уже
хотя бы потому, что до Амалии наши соображения никак не доходили, а если бы
и дошли, то не встретили бы ничего, кроме молчания. К счастью, я теперь
понимаю Амалию лучше, чем тогда. Она терпела больше нас всех. Непонятно, как
она все это вытерпела и до сих пор осталась жива. Может быть, мать страдала
за всех нас, столько напастей обрушилось на нее, но страдала она недолго;
теперь уже никак нельзя сказать, что она страдает, но и тогда у нее уже
мысли путались. А Амалия не только несла все горе, но у нее хватало ума все
понять, мы видели только последствия, она же видела суть дела, мы надеялись
на какие-то мелкие облегчения, ей же оставалось только молчать, лицом к лицу
стояла она с правдой и терпела такую жизнь и тогда, и теперь. Насколько
легче было нам при всех наших горестях, чем ей. Правда, нам пришлось
покинуть наш дом, туда переехал Брунсвик, нам отвели эту хижину, и на ручной
тележке мы в несколько приемов перевезли сюда весь наш скарб. Мы с Варнавой
тащили тележку, отец с Амалией подталкивали ее сзади; мать мы перевезли
прежде всего, и она, сидя на сундуке, встретила нас тихими стонами. Но я
помню, как мы, даже во время этих утомительных перевозок -- очень
унизительных, так как нам навстречу часто попадались возы с полей, а их
владельцы при виде нас отворачивались и отводили взгляд, -- помню, как мы с
Варнавой даже во время этих поездок не могли не говорить о наших заботах и
планах, иногда останавливаясь посреди дороги, и только окрик отца напоминал
нам о наших обязанностях. Но и после переселения никакие разговоры не могли
изменить нашу жизнь, и мы только постепенно стали все больше и больше
ощущать нищету. Помощь родственников прекратилась, наши средства подходили к
концу, и как раз в это время усилилось то презрение к нам, которое ты уже
заметил. Все поняли, что у нас нет сил выпутаться из истории с письмом, и за
это на нас очень сердились. Они правильно расценивали тяжкую нашу судьбу,
хотя точно ничего и не знали; они понимали, что сами вряд ли выдержали бы
такое испытание лучше нас, но тем важнее им было отмежеваться от нас
окончательно; преодолей мы все, нас бы, естественно, стали уважать, но, раз
нам это не удалось, люди решились на то, что до тех пор только намечалось:
нас окончательно исключили из всех кругов общества. Теперь о нас уже не
говорили как о людях, нашу фамилию никогда больше не называли, и если о нас
заговаривали, то упоминали только Варнаву, самого невинного из нас, даже о
нашей лачуге пошла дурная слава, и, если ты проверишь себя, ты сознаешься,
что и ты, войдя сюда впервые, подумал, что презрение это как-то оправданно;
позже, когда к нам иногда стали заходить люди, они морщились от самых
незначительных вещей, например от того, как наша керосиновая лампочка висит
над столом. А где же ей еще висеть, как не над столом, но им это казалось
невыносимым. А если мы перевешивали лампу, их отвращение все равно не
проходило. Все, что у нас было и чем мы были сами, вызывало одинаковое
презрение".
--------
делать, то, за что нас справедливее можно было презирать, чем за все другое.
Мы предали Амалию, мы нарушили ее молчаливый приказ, мы больше не могли так
жить, жизнь без всякой надежды стала невозможной, и мы начали каждый
по-своему добиваться, чтобы в Замке нас простили, вымаливать прощение.
Правда, мы знали, что нам ничего не исправить, знали, что единственная
обнадеживающая связь, которая у нас была с Замком, -- связь с Сортини,
чиновником, благоволившим к отцу, -- стала для нас недоступной, но все же мы
принялись за дело. Начал отец, начались его бессмысленные походы к старосте,
к секретарям, к адвокатам, к писарям; обычно его нигде не принимали, а если
удавалось хитростью или случаем пробиться -- как мы ликовали при каждом
таком известии, как потирали руки, -- то его моментально выставляли и больше
не принимали никогда. Да им и отвечать отцу было до смешного легко. Замку
это всегда легко. Что ему, в сущности, надо? Что с ним случилось? За что он
просит прощения? Когда и кто в Замке замахнулся на него хоть пальцем? Да,
конечно, он обнищал, потерял клиентуру и так далее, но ведь это -- явления
повседневной жизни, все дело в состоянии рынка, в спросе на работу, неужели
Замок должен во все вникать? Конечно, там вникают во все, но нельзя же грубо
вмешиваться в ход жизни с единственной целью -- соблюдать интересы одного
человека. Что же, прикажете разослать отсюда чиновников, прикажете им бегать
за клиентами вашего отца и силой возвращать их к нему? Да нет же, прерывал
их тогда отец, дома мы заранее с ним все обсудили и до его походов, и после,
обсуждали в уголке, словно прятались от Амалии, а она хоть и все замечала,
но не вмешивалась. Да нет же, говорил им отец, он ведь не жалуется, что мы
обнищали, все, что он потерял, он легко наверстает, это все несущественно,
лишь бы только его простили. Но что же ему прощать? -- отвечали ему. Никаких
доносов на него до сих пор не поступало, во всяком случае, в протоколах
ничего такого нет, по крайней мере в тех протоколах, которые открыты для
общественности. Значит, насколько можно установить, ни дела против него
никто не возбуждал, ни намерений таких пока нет. Может быть, он скажет, были
ли приняты против него какие-нибудь официальные меры? Или, быть может, имело
место вмешательство официальных органов? Об этом отец ничего не знал. "Ну
вот видите, раз вы ничего не знаете и раз ничего не случилось, то чего же вы
хотите? Что именно можно было бы вам простить? В крайнем случае только то,
что вы зря утруждаете власти, но это как раз и непростительно". Однако отец
не сдавался, тогда у него было еще много сил, и вынужденное безделье
оставляло ему много свободного времени, "Я восстановлю честь Амалии в самое
ближайшее время", -- говорил он Варнаве и мне по нескольку раз в день
потихоньку, потому что Амалия не должна была это слышать, хотя говорилось
это лишь для Амалии, потому что на самом деле он ни о каком восстановлении
чести и не думал, а думал только о том, чтобы выпросить прощение. Но для
этого ему надо было сначала установить свою вину, а в этом власти ему
отказывали. И он напал на мысль, доказавшую, как ослабел к тому времени его
ум, что от него скрывают его вину, потому что он мало платит, -- дело в том,
что мы до сих пор платили только причитающиеся с нас налоги, довольно
большие, по нашим тогдашним обстоятельствам. Теперь же он решил, что ему
надо платить больше, что, конечно, было ошибкой: хотя наши власти -- чтобы
избежать лишних разговоров, для простоты -- и берут кое-какие взятки, но
добиться этим ничего нельзя. Но раз отец на это надеялся, мы ему мешать не
хотели. Мы продали все, что у нас оставалось -- по большей части самое
необходимое, -- чтобы обеспечить отца средствами для его ходатайств, долгое
время мы испытывали по утрам удовлетворение, когда он, отправляясь
спозаранку в путь, мог позвякивать несколькими монетками в кармане. Правда,
мы из-за этого целыми днями голодали, а единственное, чего мы действительно
добивались благодаря этим деньгам, -- это поддерживали у отца какие-то
светлые надежды. Однако и это едва ли принесло пользу. Он измучился в своих
походах, и то, что из-за отсутствия денег вскоре само собой пришло бы к
концу, растянулось на долгое время. За деньги, конечно, никто ничего из ряда
вон выходящего все равно сделать не мог, разве что какой-нибудь писарь
иногда пытался создать видимость, будто что-то делается, обещал кое-что
узнать, намекал, будто нашлись какие-то следы и он по ним начнет распутывать
дело уже не по обязанности, а исключительно из любви к нашему отцу, и отец,
вместо того чтобы усомниться, верил еще больше. Он возвращался домой, после
таких явно бессмысленных обещаний, как будто нес в дом благополучие, и
мучительно было видеть, как он, с вымученной улыбкой, широко открыв глаза,
кивая на Амалию, хотел дать нам понять, как близко спасение Амалии -- что
поразило бы ее больше всех! -- но сейчас это еще секрет, и мы должны строго
соблюдать молчание. Так тянулось бы еще долго, если бы мы в конце концов не
лишились всякой возможности доставать для отца деньги. Правда, тем временем,
после долгих упрашиваний, Брунсвик взял Варнаву к себе в подмастерья, но
только с тем условием, чтобы он приходил за заказами вечером, в темноте, и
приносил работу тоже затемно, -- надо принять во внимание, что Брунсвик
из-за нас подвергал свое дело некоторой опасности, но платил он Варнаве
гроши, хотя работал Варнава безукоризненно, и этой платы хватало только на
то, чтобы нам не умереть с голоду. Очень бережно, после долгой подготовки мы
объявили отцу, что денежная наша поддержка прекращается, но он принял это
очень спокойно. Умом он уже был не способен понять бесперспективность всех
своих походов, но постоянные разочарования все же его утомили.
раньше он говорил даже слишком отчетливо, -- что ему понадобилось бы еще
совсем немного денег, завтра или даже сегодня он все узнал бы, а теперь все
пошло прахом, все рушилось только из-за денег и так далее, но по тону его
разговоров было ясно, что он сам уже ничему не верит. К тому же у него тут
же, с ходу, зародились новые планы. Так как ему не удалось установить свою
вину и потому он и дальше ничего не достиг бы официальным путем, то теперь
он решил обратиться к чиновникам с просьбами лично. Среди них наверняка есть
люди с добрым, сострадательным сердцем, и хотя на службе они не имеют права
слушаться голоса сердца, но если застать их врасплох вне службы, в


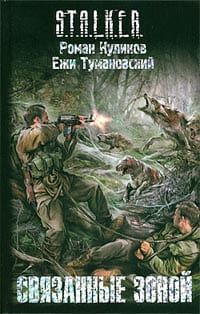
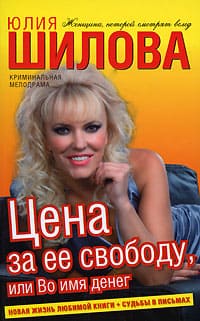


 Посняков Андрей
Посняков Андрей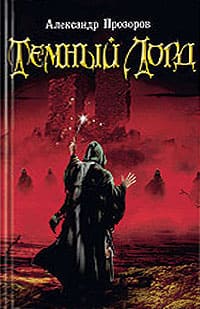 Прозоров Александр
Прозоров Александр Корнев Павел
Корнев Павел Лукин Евгений
Лукин Евгений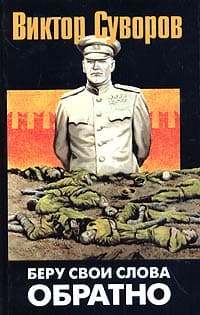 Суворов Виктор
Суворов Виктор Сертаков Виталий
Сертаков Виталий