чтобы оно сделало это намеренно, -- другими словами, не может быть, чтобы
все, что бы я ни делала, заранее безоговорочно получило бы отпор. Поэтому я
не сдавалась, а честолюбие Варнавы сделало свое. Во время всей этой
подготовки Варнава так заважничал, что даже стал считать работу сапожника
слишком грязной для себя, будущего служащего канцелярии; больше того, он
даже осмеливался весьма решительно возражать Амалии, когда она к нему
изредка обращалась. Я не хотела мешать его недолговечной радости, потому что
в первый же день, когда он отправился в Замок, и радость и высокомерие, как
и можно было ожидать, исчезли без следа. И началась та кажущаяся служба, про
которую я тебе уже рассказывала. Удивительно было только то, что Варнава без
всякого затруднения, сразу попал в Замок, вернее, в ту канцелярию, которая
стала его рабочим местом. Такой успех меня чуть с ума не свел, и, когда
Варнава шепнул мне об этом на ухо, я бросилась к Амалии, прижала ее в угол и
осыпала поцелуями, впиваясь в нее и губами и зубами так, что она
расплакалась от испуга и боли. От волнения я не могла выговорить ни слова,
да мы с ней уже давно не разговаривали, и я отложила объяснения на утро. Но
в ближайшие дни рассказывать уже было не о чем. На том, что было достигнуто,
все и остановилось. Два года Варнава вел эту однообразную, гнетущую жизнь.
Слуги ничего не сделали, я дала Варнаве записку, в которой поручала его
вниманию слуг и напоминала им про их обещания, и Варнава, как только видел
кого-нибудь из слуг, вынимал записку и протягивал ему, при этом он иногда
попадал на слуг, которые меня не знали, других раздражала его манера --
молча протягивать записку, -- разговаривать там, наверху, он не смел; но
тягостно было то, что ему никто помочь не желал, и для нас было избавлением
-- правда, мы могли бы давным-давно и сами избавить себя таким способом, --
когда один из слуг, которому, быть может, не раз навязывали эту записку,
смял ее и бросил в корзину для бумаг. Он, как мне казалось, мог бы при этом
и добавить: "Вы же сами так обращаетесь с письмами". Но как бы бесплодно ни
проходило это время, Варнаве оно принесло пользу, если можно назвать пользой
то, что он преждевременно повзрослел, преждевременно стал мужчиной; да, во
многом он стал серьезнее, осмотрительнее, даже не по возрасту. Мне иногда
становится очень грустно, когда я гляжу на него и сравниваю с тем мальчиком,
каким он был еще два года назад. И при этом ни утешения, ни внимания,
которых можно было бы ожидать от взрослого человека, я от него не вижу. Без
меня он вряд ли попал бы в Замок, но с тех пор, как он там, он уже от меня
не зависит. Я его единственный поверенный, но он наверняка рассказывает мне
только малую долю того, что лежит у него на сердце. Он часто говорит о
Замке, но из его рассказов, из этих незначительных случаев, о которых он
сообщает, невозможно понять, каким образом эта обстановка вызвала в нем
такую перемену. Особенно трудно понять, почему он, став взрослым мужчиной,
полностью потерял ту смелость, которая в нем, мальчике, приводила нас в
отчаяние. Правда, это бесполезное стояние и бесконечное ожидание изо дня в
день без всякой надежды на перемену ломают человека, делают его
нерешительным, и в конце концов он становится не способным ни на что другое,
кроме безнадежного стояния на месте. Но почему ж с самого начала он не
сопротивлялся? Ведь он очень скоро понял, насколько я была права и что
никакого удовлетворения его честолюбию там не найти, хотя, быть может, ему и
удастся принести пользу нашему семейству. Ведь там во всем -- кроме причуд
всякой челяди -- царит большая скромность, там честолюбивый человек ищет
удовлетворения только в работе, а так как тогда сама работа становится
превыше всего, то всякое честолюбие пропадает -- для детских мечтаний там
места нет. Но Варнаве, как он мне рассказывал, казалось, что там он ясно
увидел, как велика и власть, и мудрость даже тех, собственно говоря, очень
неважных чиновников, в чьих комнатах ему разрешалось бывать. Как они
диктовали, быстро, полузакрыв глаза, отрывисто жестикулируя, как одним
мановением пальца, без единого слова, рассылали ворчливых слуг, а те в такие
минуты, тяжело дыша, все же радостно усмехались, или как один из чиновников,
найдя важное место в книгах, хлопал по страницам ладонью, а все остальные
сразу, насколько позволяло тесное помещение, сбегались и глазели, вытягивая
шеи. И это, и многое другое создавало у Варнавы самое высокое мнение об этих
людях, и он себе представил, что если вдруг они его заметят и ему удастся
перекинуться с ними несколькими словами -- уже не как постороннему, а как их
сослуживцу по канцелярии, хоть и в самом низшем чине, -- то для нашей семьи
удастся достигнуть невиданных благ. Но покамест до этого еще не дошло, а
сделать шаг, который приблизил бы его к чиновникам, Варнава не смеет, хотя
ему уже совершенно ясно, что, несмотря на свою молодость, он из-за нашего
несчастья занял в нашем доме ответственнейшее место отца семейства. А теперь
хочу сделать тебе и последнее признание: неделю назад приехал ты. Я слышала,
как в гостинице об этом кто-то упомянул, но не обратила внимания: приехал
какой-то землемер, а я толком и не знала, что это такое. Но на следующий
вечер Варнава пришел домой раньше, чем всегда -- обычно я выходила ему
навстречу в определенный час, -- увидел в горнице Амалию и потому повел меня
на улицу, а там вдруг прижался лицом к моему плечу и залился слезами. Он
снова стал прежним мальчуганом. С ним случилось нечто такое, к чему он не
был готов. Перед ним как будто открылся совсем новый мир, и ему не совладать
с радостными заботами, которые несет с собой это открытие. А случилось
только то, что ему дали письмо для передачи тебе. Но ведь это было первое
письмо и вообще первая работа, которую он получил".
хрип, дыхание родителей. И К. сказал небрежно, словно подытоживая рассказ
Ольги: "Все передо мной притворялись. Варнава принес мне письмо с видом
опытного и очень занятого посыльного, а ты с Амалией -- на этот раз она была
с вами заодно, -- вы обе сделали вид, что и обязанности посыльного, и
передачу писем -- все это он выполняет так, между прочим". "Ты только не
смешивай нас всех, -- сказала Ольга. -- Варнаву эти два письма снова
превратили в счастливого ребенка, несмотря на то что он до сих пор
сомневается в своей работе. Но эти сомнения он высказывает только мне, перед
тобой же он считает для себя делом чести выступать в роли настоящего
посыльного, каким тот должен быть, по его представлениям. И хотя теперь у
него и возросла надежда получить форму, мне пришлось за два часа так ушить
ему брюки, чтобы они хоть немного походили на форменные штаны в обтяжку, в
них он хотел покрасоваться перед тобой -- в этом отношении тебя нетрудно
было обмануть. Это -- про Варнаву. А про Амалию скажу, что она действительно
презирает службу посыльного, и теперь, когда Варнава достиг какого-то успеха
-- она легко могла бы об этом догадаться и по мне, и по Варнаве, и по нашим
переживаниям в уголке, -- теперь она презирает Варнаву еще больше прежнего.
Значит, она тебе говорит правду, и ты не поддавайся заблуждению, тут
сомневаться не надо. А вот если я, К., иногда при тебе пренебрежительно
говорила про службу посыльного, так вовсе не для того, чтобы тебя обмануть,
а только из страха. Ведь те два письма, что прошли до сих пор через руки
Варнавы, и были за три года первым, хоть и очень сомнительным указанием
того, что над нашим семейством смилостивились. Эта перемена -- если только
это и на самом деле перемена, а не ошибка, потому что ошибки бывают чаще,
чем перемены, -- связана с твоим появлением здесь, наша судьба попала в
некоторую зависимость от тебя, быть может, эти два письма -- только начало,
и работа Варнавы выйдет далеко за пределы должности посыльного,
обслуживающего одного тебя, пока можно будет на это надеяться, но сейчас все
сосредоточивается только на тебе. Там, наверху, мы должны удовлетворяться
тем, что нам дают, но тут, внизу, мы, может быть, и сами можем что-то
сделать, а именно: обеспечить себе твое доброе отношение, или по крайней
мере защититься от твоего недоброжелательства, или же, что самое важное,
оберегать тебя, насколько хватит наших сил и возможностей, чтобы твоя связь
с Замком, которая, быть может, и нас вернет к жизни, не пропала зря. Но как
же все это выполнить получше? Главное, чтобы ты не относился с подозрением,
когда мы к тебе подходим, ведь ты тут чужой, а потому, конечно, тебя
одолевают подозрения, и вполне оправданные подозрения. Кроме того, нас все
презирают, а на тебя влияет мнение других, особенно мнение твоей невесты, --
как же нам к тебе приблизиться без того, чтобы, например, не пойти, хоть и
непреднамеренно, против твоей невесты и этим тебя не обидеть. А эти письма,
которые я прочитывала до того, как ты их получал, -- Варнава их не читал, он
как посыльный себе этого не мог позволить, -- эти письма на первый взгляд
казались мне совсем неважными, устаревшими, они, собственно говоря, сами
себя опровергали тем, что направляли тебя к старосте. Как же нам надо было
держаться с тобой при таких обстоятельствах? Если подчеркивать важность этих
писем, мы вызвали бы подозрение -- зачем мы преувеличиваем такие пустяки и
что, расхваливая тебе письма, мы, их передатчики, преследуем не твои цели, а
свои, больше того, мы этим могли обесценить письма в твоих глазах и тем
самым разочаровать тебя без всякого намерения. Если же мы не придали бы
письмам никакой цены, мы тоже вызвали бы подозрение -- зачем же тогда мы
хлопочем о передаче этих ненужных посланий, почему наши дела противоречат
нашим словам, зачем мы так обманываем не только тебя, адресата писем, но и
тех, кто нам дал это поручение, а ведь не для того же они поручили нам
передать письма, чтобы мы их при этом обесценили в глазах адресата. А найти
середину между этими крайностями, то есть правильно оценить письма, вообще
невозможно, они же непрестанно меняют свое значение, они дают повод для
бесконечных размышлений, и на чем остановиться -- неизвестно, все зависит от
случайностей, значит, и мнение о них составляется случайно. А если тут еще
станешь бояться за тебя, все запутывается окончательно, только ты не суди
меня слишком строго за эти разговоры. Когда, к примеру, как это уже один раз
случилось, Варнава приходит и сообщает, что ты недоволен его работой
посыльного, а он, с перепугу и, к сожалению, не без оскорбленного самолюбия,
предлагает, чтобы его освободили от этой должности, тут я, конечно, способна
обманывать, лгать, передергивать -- словом, поступать очень скверно, лишь бы
помогло. Но тогда я поступаю так не только ради нас, но, по моему убеждению,
и ради тебя".
полоса света от карманного фонаря. Поздний гость что-то спрашивал шепотом, и
ему шепотом же отвечали, но он этим не удовлетворился и попытался было





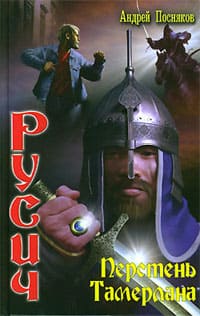
 Посняков Андрей
Посняков Андрей Березин Федор
Березин Федор Дальский Алекс
Дальский Алекс Сертаков Виталий
Сертаков Виталий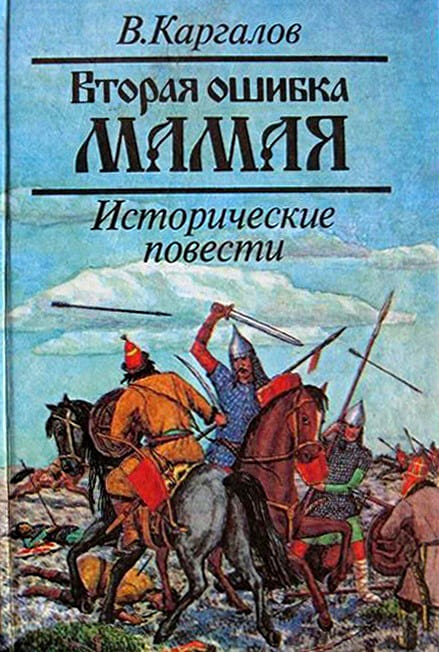 Каргалов Вадим
Каргалов Вадим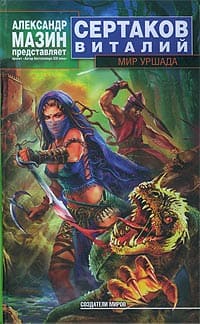 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий