между его секретарями в Замке и в Деревне, нахожусь по большей части в
Деревне, но не постоянно, каждую минуту я должен быть наготове, чтобы
вернуться в Замок. Вот видите, вон мой дорожный саквояж, жизнь у меня
неспокойная, не каждому выдержать. С другой стороны, верно и то, что я без
этой работы жить бы не смог, всякая другая работа мне показалась бы мелкой.
А как с вашими землемерными работами?" "Я ими не занимаюсь, тут меня как
землемера не используют", -- сказал К., но сейчас его мысли были далеко от
дел, он жаждал только одного -- чтобы Бюргель заснул, но и этого ему
хотелось только из какого-то чувства долга перед самим собой, в душе он
сознавал, что момент, когда Бюргель уснет, неизмеримо далеко. "Странно, --
сказал Бюргель, живо вскинув голову, и вытащил из-под одеяла записную книжку
для каких-то отметок. -- Вы землемер, а землемерных работ не производите".
К. машинально кивнул: он вытянул вдоль спинки кровати левую руку и оперся на
нее головой, он все время искал, как бы сесть поудобнее, и это положение
оказалось удобнее всего, и теперь он мог внимательно прислушаться к словам
Бюргеля. "Я готов, -- продолжал Бюргель, -- разобраться в этом деле. У нас,
безусловно, не такие порядки, чтобы специалиста не использовать по
назначению. Да и для вас это должно быть обидно. Разве вы от этого не
страдаете?" "Да, страдаю", -- сказал К. медленно, улыбаясь про себя, потому
что именно сейчас не страдал ни капельки. Да и предложение Бюргеля никакого
впечатления на него не произвело. Все это было сплошное дилетантство. Ничего
не зная о тех обстоятельствах, при которых вызвали сюда К., о трудностях,
встреченных им в Деревне и в Замке, о запутанности его дел, которая за время
пребывания К. уже дала или дает о себе знать, -- ничего не ведая обо всем
этом, более того, даже не делая вида, что он, как, во всяком случае,
полагалось бы секретарю, имеет хотя бы отдаленное представление об этом
деле, он предлагает так, походя, при помощи какого-то блокнотика уладить
недоразумение там, наверху. "Видно, у вас уже было немало разочарований", --
сказал Бюргель, доказав этими словами, что он все же разбирался в людях, и
вообще К. с той минуты, как вошел в эту комнату, все время старался себя
уговорить, что недооценивать Бюргеля не стоит, но он находился в том
состоянии, когда трудно правильно судить о чем бы то ни было, кроме
собственной усталости. "Нет, -- продолжал Бюргель, словно отвечая на
какие-то мысли К. и желая предусмотрительно избавить его от необходимости
говорить. -- Пусть вас не отпугивают разочарования. Иногда сдается, что тут
специально все так устроено, чтобы отпугивать людей, а кто сюда приезжает
впервые, тому эти препятствия кажутся совершенно непреодолимыми. Не стану
разбираться, как обстоит дело по существу, может быть, так оно и есть, я
слишком близко ко всему стою, чтобы составить определенное мнение, но
заметьте, иногда подворачиваются такие обстоятельства, которые никак не
связаны с общим положением дел. В этих обстоятельствах одним взглядом, одним
словом, одним знаком доверия можно достигнуть гораздо большего, чем
многолетними, изводящими человека стараниями. Это, безусловно, так. Правда,
в одном эти случайности соответствуют общему положению дел -- в том, что ими
никогда не пользуются. Но почему же ими не пользуются? -- всегда спрашиваю я
себя". Этого К. не знал; и хотя он заметил, что слова Бюргеля
непосредственно касаются его самого, но у него возникло какое-то отвращение
ко всему, что его непосредственно касалось, и он немного повернул голову
вбок, как бы пропуская мимо ушей вопросы Бюргеля, чтобы они его не
затрагивали. "Постоянно, -- продолжал Бюргель и, потянувшись, широко зевнул,
что странно противоречило серьезности его слов, -- секретари постоянно
жалуются, что их заставляют по ночам допрашивать деревенских жителей. Но
почему они на это жалуются? Потому ли, что это их очень утомляет? Потому ли,
что ночью они предпочитают спать? Нет, на это они никак не жалуются.
Конечно, среди секретарей есть и более усердные, и менее усердные, как и
везде, но на слишком большую нагрузку никто из них, во всяком случае
открыто, не жалуется. Просто это не в наших привычках. В этом отношении мы
не делаем разницы между обычным и рабочим временем. Такое различие нам
чуждо. Так почему же тогда секретари возражают против ночных допросов? Может
быть, из желания щадить посетителей? Нет-нет, посетителей секретари
совершенно не щадят, так же как и самих себя, тут они пощады не знают. Но в
сущности, эта беспощадность есть не что иное, как железный порядок при
исполнении служебных обязанностей, а чего же больше могут для себя желать
посетители? В основном, хоть и незаметно для поверхностного наблюдения --
это и признают все без исключения, -- сами посетители как раз и приветствуют
ночные допросы, никаких существенных возражений против ночных допросов не
поступает. Но почему же тогда секретари так ими недовольны?" К. и этого не
знал, он вообще знал очень мало, он даже не мог разобрать, всерьез ли
Бюргель задает вопросы или только для проформы. "Пустил бы ты меня поспать
на твоей кровати, -- думал К., -- я бы завтра днем или лучше к вечеру
ответил тебе на все вопросы". Но Бюргель как будто не обращал на него
никакого внимания, уж очень его занимало то, о чем он сам себя спрашивал:
"Насколько я понимаю и насколько я сам испытал, секретари в основном
возражают против ночных допросов по следующим соображениям: ночь потому
менее подходит для приема посетителей, что ночью трудно или даже совсем
невозможно полностью сохранить служебный характер процедуры. И зависит это
не от внешних формальностей, их можно при желании соблюдать со всей
строгостью ночью так же, как и днем. Так что суть дела не в этом, страдает
тут именно служебный подход к делу. Невольно склоняешься судить ночью обо
всем с более личной точки зрения, слова посетителя приобретают больше веса,
чем положено, к служебным суждениям примешиваются совершенно излишние
соображения насчет жизненных обстоятельств людей, их бед и страданий;
необходимая граница в отношениях между чиновниками и допрашиваемыми
стирается, как бы безупречно она внешне ни соблюдалась, и там, где, как
полагается, надо было бы ограничиться, с одной стороны, вопросами, с другой
-- ответами, иногда, как ни странно, возникает совершенно неуместный обмен
ролями. Так по крайней мере утверждают секретари, которые по своей профессии
одарены особенно тонким чутьем на такие вещи. Но даже и они -- об этом много
говорилось в нашей среде -- мало замечают эти незначительные отклонения во
время ночных допросов; напротив, они заранее напрягают все силы, чтобы
противостоять подобным влияниям, сопротивляться им, и считают, что им в
конце концов удается достигнуть особенно ценных результатов. Однако когда
потом читаешь их протоколы, то удивляешься явным промахам, которые видны
невооруженным глазом. И это такие ошибки, обычно ничем не оправданные ошибки
в пользу допрашиваемых, которые, по крайней мере по нашим предписаниям, уже
нельзя сразу исправить обычным путем. Разумеется, когда-нибудь эти ошибки
наверняка будут исправлены контрольной службой, но это пойдет только в счет
исправления правовых нарушений и человеку уже повредить не сможет. Разве при
всех этих обстоятельствах жалобы секретарей не обоснованны?" К. уже давно
находился в каком-то полусне, но вопрос его снова разбудил. "К чему все это?
К чему все это?" -- спросил он себя и посмотрел на Бюргеля из-под
полузакрытых век не как на чиновника, обсуждающего с ним сложные вопросы, а
только как на что-то мешающее ему спать, что-то такое, в чем он никакого
другого смысла увидать не мог. Но Бюргель, всецело поглощенный своими
мыслями, усмехался, как будто ему удалось совсем сбить К. с толку. Однако он
был готов снова вывести его на верную дорогу. "Все же, -- сказал он, --
считать эти жалобы совершенно законными тоже нельзя. Конечно, ночные допросы
нигде прямо не предписаны, так что если стараются их избегать, то никаких
инструкций не нарушают, но все обстоятельства: перегрузка работой, характер
занятий чиновников в Замке, затруднения с выездом, порядок, в соответствии с
которым допрос назначается лишь после тщательного расследования, но уж тогда
без промедления, -- все это, да и многое другое сделали ночные допросы
неизбежной необходимостью. Но коль скоро они стали необходимостью, то должен
вам сказать: это, хотя и косвенно, означает, что они вытекают из
предписаний, и жаловаться на ночные допросы значило бы -- тут я несколько
преувеличиваю, я и осмеливаюсь это высказать именно как преувеличение, --
это значило бы, в сущности, жаловаться на предписания.
предписаний, стараются оградить себя от ночных допросов и связанных с ними,
хотя, возможно, и кажущихся, неудобств. Насколько возможно, они прибегают к
этому в широких масштабах. Они берутся только за те дела, которые
представляют наименьшую опасность, тщательно проверяют себя перед встречей,
и если результат проверки этого требует, то отказывают просителю в приеме,
иногда даже в самую последнюю минуту, иногда вызывают просителя раз десять,
прежде чем заняться его делом, охотно посылают взамен себя своих коллег,
которые совсем не разбираются в данном вопросе и потому могут решить его с
необычайной легкостью, или же назначают прием хотя бы на начало ночи или на
ее конец, сохраняя для себя середину, -- словом, таких мероприятий
существует множество, их не так легко поймать, этих секретарей, и насколько
они обидчивы, настолько же умеют постоять за себя". К. спал, однако сон был
не настоящий, он слышал слова Бюргеля, быть может, даже лучше, чем бодрствуя
и мучась. Слова, одно за другим, били ему в уши, но исчезло тягостное
ощущение, он чувствовал себя свободным, и не Бюргель держал его, а он сам
минутами ощупью тянулся к Бюргелю, он еще не потонул в самой глубине сна, но
уже погружался в нее. Никому теперь не вырвать его оттуда. И у него
появилось ощущение, будто победа уже одержана, и вот собралась компания
отпраздновать ее, и не то он сам, не то кто-то другой поднял бокал
шампанского за его победу. И для того, чтобы все знали, о чем идет речь, и
борьба и победа повторились вновь, а может быть, и не повторились, а только
сейчас происходят, а победу стали праздновать заранее и продолжают
праздновать, потому что исход, к счастью, уже предрешен. Одного из
секретарей, обнаженного и очень схожего со статуей греческого бога, К.
потеснил в борьбе. Это было ужасно смешно, и К. усмехался во сне над тем,
как секретарь при выпадах К. терял свою гордую позу и спешил опустить
вскинутую кверху руку и сжатый кулак, чтобы прикрыть свою наготу, но все
время запаздывал. Борьба продолжалась недолго; шаг за шагом -- а шаги были
широкие -- К. продвигался вперед. Да и была ли тут борьба? Никаких серьезных
препятствий преодолевать не приходилось, только изредка взвизгивал
секретарь. Да, греческий бог визжал, как девица, которую щекочут. И наконец
он исчез. К. остался один в огромной комнате, он храбро оглядывался по


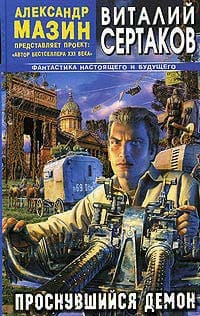

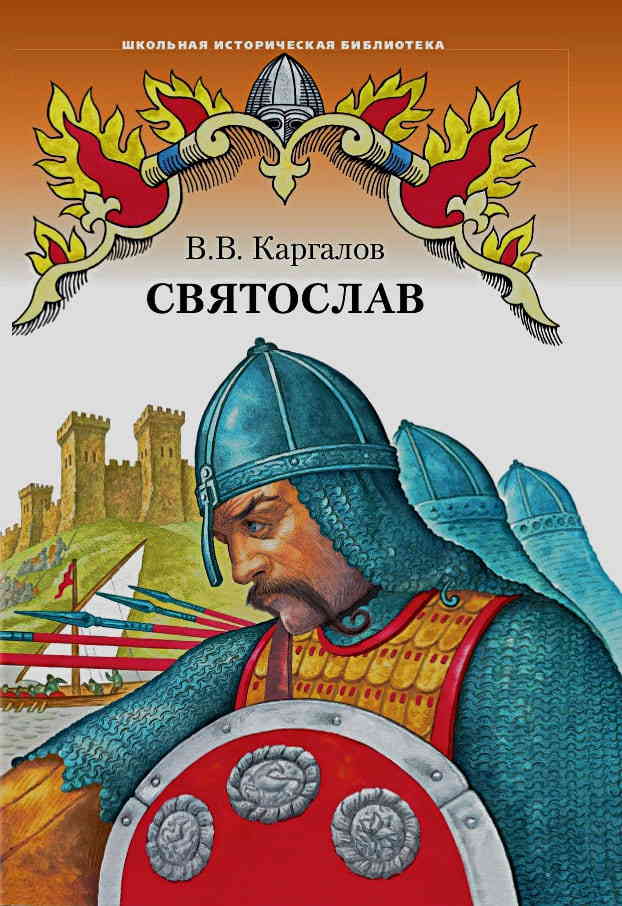

 Мурич Виктор
Мурич Виктор Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Лукин Евгений
Лукин Евгений Никитин Юрий
Никитин Юрий Свержин Владимир
Свержин Владимир Березин Федор
Березин Федор