такая возможность, он с радостью воспользовался бы ею и охотно пренебрег бы
случаем посмотреть на то, что запрещено видеть, тем более что он вообще был
не в состоянии хоть что-нибудь разглядеть, а потому самые щепетильные
господа могли, не стесняясь, показаться ему на глаза.
уважение, с которым К. говорил об этих господах, расположили хозяина в его
пользу. Он как будто уже склонялся на просьбу К. -- положить доску на пивные
бочки и разрешить ему поспать тут хоть до рассвета, -- но хозяйка была явно
против; непрестанно без надобности оправляя платье, только сейчас сообразив,
что у нее что-то не в порядке, она вновь и вновь качала головой, и старый
спор о чистоте в доме вот-вот готов был разразиться. Для К., при его
усталости, разговор супругов имел огромнейшее значение. Быть сейчас
выгнанным отсюда казалось ему такой бедой, с которой все пережитое до сих
пор не шло и в сравнение. Этого нельзя было допустить, даже если бы и хозяин
и хозяйка вдруг заодно пошли против него. Скорчившись на бочке, он выжидающе
смотрел на них, как вдруг хозяйка, с той невозможной обидчивостью, которую
уже подметил в ней К., отступила в сторону и, хотя она уже говорила с
хозяином о чем-то другом, крикнула: "Но как он на меня смотрит! Выгони же
его наконец!" Но К., воспользовавшись случаем и уже уверенный, что он тут
останется, сказал: "Да я не на тебя смотрю, а на твое платье".
пожал плечами. "Пойдем! -- сказала хозяйка хозяину. -- Он же пьян, этот
оболтус! Пусть проспится!" И она тут же приказала Пепи, которая вынырнула на
зов из темноты, растрепанная, усталая, волоча за собой метлу, чтобы та
бросила К. какую-нибудь подушку.
--------
по-прежнему тепло, но пусто, у стен сгустилась темнота, единственная
лампочка потухла, и за окном тоже стояла ночь. Он потянулся, подушка упала,
а его ложе и бочки затрещали; в зал сразу вошла Пепи, и тут он узнал, что
уже вечер и проспал он более двенадцати часов. Несколько раз о нем
справлялась хозяйка, да и Герстекер, который утром, во время разговора К. с
хозяйкой, сидел тут, в темноте, за пивом и не осмелился помешать К., тоже
заходил сюда -- посмотреть, что с К., и, наконец, как будто заходила и
Фрида, минутку постояла над К., но вряд ли она приходила из-за К., а,
скорее, из-за того, что ей надо было тут кое-что подготовить -- она же
должна была вечером снова заступить на свою прежнюю службу. "Видно, она тебя
больше не любит?" -- спросила Пепи, подавая ему кофе с печеньем. Но спросила
она об этом не зло, как прежде, а, скорее, грустно, словно с тех пор узнала
злобность мира, перед которой собственная злоба пасует, становится
бессмысленной; как с товарищем по несчастью говорила она с К., и, когда он
попробовал кофе и ей показалось, что ему недостаточно сладко, она побежала и
принесла полную сахарницу. Правда, грустное настроение не помешало ей
приукраситься больше прежнего: бантиков и ленточек, вплетенных в косы, было
предостаточно, на лбу и на висках волосы были тщательно завиты, а на шее
висела цепочка, спускавшаяся в низкий вырез блузки. Но когда К., довольный,
что наконец удалось выспаться и выпить хорошего кофе, тайком потянул за
бантик, пробуя его развязать, Пепи устало сказала: "Не надо" -- и присела
рядом с ним на бочку. И К. даже не пришлось расспрашивать ее, что у нее за
беда, она сама стала ему рассказывать, уставившись на кофейник, как будто
даже во время рассказа ей надо было отвлечься и она не может, даже говоря о
своих бедах, всецело отдаться мысли о них, так как на это сил у нее не
хватит. Прежде всего К. узнал, что в несчастьях Пепи виноват он, хотя она за
это на него не в обиде. И она решительно помотала головой, как бы отводя
всякие возражения К. Сначала он увел Фриду из буфета, и Пепи смогла получить
повышение. Невозможно было придумать что-нибудь другое, из-за чего Фрида
бросила бы свое место, она же сидела в буфете, как паучиха в паутине, во все
стороны от нее тянулись нити, про которые только ей и было известно; убрать
ее отсюда против воли было бы невозможно, и только любовь к низшему
существу, то есть то, что никак не соответствовало ее положению, могла
согнать ее с места. А Пепи? Разве она когда-нибудь собиралась заполучить это
место для себя? Она была горничной, занимала незначительное место, не
сулившее ничего особенного, но, как всякая девушка, мечтала о лучшем
будущем, мечтать никому не запретишь, но всерьез она о повышении не думала,
она была довольна достигнутым. И вдруг Фрида внезапно исчезла, так внезапно,
что у хозяина под рукой не оказалось подходящей замены, он стал искать, и
его взгляд остановился на Пепи; правда, она сама в соответствующую минуту
постаралась попасться ему на глаза. В то время она любила К., как никогда
еще никого не любила; до того она месяцами сидела внизу, в своей темной
каморке, и была готова просидеть там много лет, а в случае невезенья и всю
жизнь, никем не замеченная, и вот вдруг появился К., герой, освободитель
девушек, и открыл перед ней дорогу наверх. Конечно же, он о ней ничего не
знал и сделал это не ради нее, но ее благодарность от этого не уменьшилась,
в ночь перед ее повышением -- а повышение было еще неопределенным, но уже
вполне вероятным -- она часами мысленно разговаривала с ним, шепча ему на
ухо слова благодарности. В ее глазах поступок К. возвысился еще больше тем,
что он взял на себя такой тяжкий груз, то есть Фриду, какая-то непонятная
самоотверженность была в том, что он ради возвышения Пени взял себе в
любовницы Фриду -- некрасивую, старообразную, худую девушку с короткими
жиденькими волосами, да к тому же двуличную: всегда у нее какие-то секреты;
наверно, это зависит от ее наружности; если любому с первого взгляда видно,
как она дурна и лицом и фигурой, значит, надо придумать тайну, которую никто
проверить не может, -- например, что она якобы в связи с Кламмом. У Пени
тогда даже появлялись такие мысли: неужели возможно, что К. и в самом деле
любит Фриду, уж не обманывается ли он или, может быть, только обманывает
Фриду, и это, возможно, приведет только к возвышению Пени, и тогда К. увидит
свою ошибку или не захочет дольше ее скрывать и обратит внимание уже не на
Фриду, а только на Пепи, и это вовсе не безумное воображение Пени, потому
что как девушка с девушкой она вполне может потягаться с Фридой, этого никто
отрицать не станет, и ведь, в сущности, К. был ослеплен прежде всего
служебным положением Фриды, которому она умела придать блеск. И Пени в
мечтах уже видела, что, когда она займет место Фриды, К. придет к ней
просителем, и тут у нее будет выбор: либо ответить на мольбы К. и потерять
место, либо оттолкнуть его и подняться еще выше. И она про себя решила
отказаться от всех благ и снизойти до К., научить его настоящей любви, какой
ему никогда не узнать от Фриды, любви, не зависящей ни от каких почетных
должностей на свете. Но потом все вышло по-другому. А кто виноват? Прежде
всего, конечно, сам К., ну а потом и Фридино бесстыдство, но главное -- сам
К. Ну что ему надо, что он за странный человек? К чему он стремится, какие
это важные дела его так занимают, что он забывает самое близкое, самое
лучшее, самое прекрасное? Вот Пепи и стала жертвой, и все вышло глупо, и все
пропало, и если бы у кого-нибудь хватило смелости подпалить и сжечь всю
гостиницу, да так сжечь, чтобы ни следа не осталось, сжечь, как бумажку в
печке, вот такого человека Пепи и назвала бы своим избранником. Итак, Пепи
пришла сюда, в буфет, четыре дня тому назад, перед обедом. Работа тут
нелегкая, работа, можно сказать, человекоубийственная, но то, чего тут можно
добиться, тоже не пустяк. Пепи и раньше жила не просто от одного дня до
другого, и если даже в самых дерзких мечтах она никогда не осмеливалась
рассчитывать на это место, то наблюдений у нее было предостаточно, она знала
все, что связано с этим местом, без подготовки она за такую работу не
взялась бы. Без подготовки сюда не пойдешь, иначе потеряешь службу в первые
же часы. А уж особенно если станешь тут вести себя как горничная! Когда
работаешь горничной, то начинаешь со временем чувствовать себя совсем
заброшенной и забытой, работаешь, как в шахте, по крайней мере в том
коридоре, где помещаются секретари; кроме нескольких дневных посетителей,
которые шмыгают мимо и глаза боятся поднять, там за весь день ни души не
увидишь, разве что других горничных, а они обозлены не меньше тебя. Утром
вообще нельзя и выглянуть из комнаты, секретари не хотят видеть посторонних,
еду им носят слуги из кухни, тут горничным делать нечего, во время еды тоже
нельзя туда ходить. Только когда господа работают, горничным разрешено
убирать, но, конечно, не в жилых комнатах, а в тех, что пока пустуют, и
убирать надо тихо, чтобы не помешать работе господ. Но разве уберешь, когда
господа занимают комнаты по многу дней, да еще там орудуют слуги, этот
грязный сброд, и когда наконец горничной разрешается зайти в помещение, оно
оказывается в таком виде, что и всемирный потоп грязь не отмоет. Конечно,
они господа важные, но приходится изо всех сил преодолевать отвращение,
чтобы за ними убирать. Работы у горничных не слишком много, но зато работа
тяжелая. И никогда доброго слова не услышишь, одни попреки, и самый частый,
самый мучительный упрек -- будто во время уборки пропали документы. На самом
деле ничего не пропадает, каждую бумажку отдаешь хозяину, а уж если
документы пропадают, то, конечно, не из-за девушек. А потом приходит
комиссия, девушек выставляют из их комнаты, и комиссия перерывает их
постели, у девушек ведь никаких своих вещей нет, все их вещички помещаются в
ручной корзинке, но комиссия часами все обыскивает. Разумеется, они ничего
не находят, да и как туда могут попасть документы? К чему девушкам
документы? А кончается тем, что комиссия с досады ругается и угрожает, а
хозяин все передает девушкам. И никогда покоя нет, ни днем, ни ночью, до
полуночи шум и с раннего утра шум. Если бы только можно было не жить при
гостинице, но жить приходится, потому что и в промежутках приходится носить
по вызову из кухни всякую всячину, это тоже обязанность горничных, особенно
по ночам. Вдруг неожиданно стучат кулаком в комнату горничной, выкрикивают
заказ, и бежишь на кухню, трясешь сонного поваренка, выставляешь поднос с
заказанным у своих дверей, откуда его забирают слуги, -- как все это уныло.
Но и это не самое худшее. Самое худшее, если заказов нет, но глубокой ночью,
когда всем время спать, да и большинство действительно спит, к комнате
горничных кто-то начинает подкрадываться. Тут девушки встают с постели -- их






 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий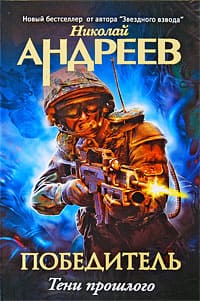 Андреев Николай
Андреев Николай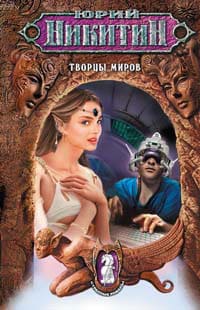 Никитин Юрий
Никитин Юрий Шилова Юлия
Шилова Юлия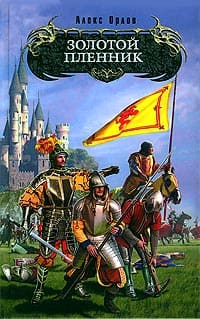 Орлов Алекс
Орлов Алекс Лукин Евгений
Лукин Евгений