обеспеченный и будет только рад, если кто-нибудь поможет ему нести бремя
расходов. Странный тип, но, ей-богу, настоящий художник, совсем не то, что
твоя претенциозная богема. - Глин усмехнулся так, что Стефену стало не по
себе, но, тотчас снова приняв серьезный вид, продолжал: - С Дюпре,
конечно, все должно быть кончено. Можешь работать у меня в мастерской. И я
познакомлю тебя с торговцем, у которого я покупаю краски. Его зовут
Наполеон Кампо. Он дает в кредит... иногда. А теперь пошли.
неожиданным решениям, однако в доводах Глина была всепобеждающая сила, а в
том, как он изложил их, - несокрушимая убежденность. Вот почему Стефен
прошел в контору гостиницы и, попросив, к изумлению обидевшегося
администратора, счет, расплатился. Затем он сложил вещи и велел снести их
вниз, смягчая впечатление от своего неожиданного отъезда щедрой раздачей
чаевых.
гостиницы, исчадие ада, и весьма холодно наблюдал за этим ритуалом.
Наконец, не выдержав, он сумрачно заметил:
еще понадобятся, прежде чем ты выбьешься в люди. Пошли.
плечо и направился к выходу. Стефен вышел вслед за ним в сверкающий
полумрак улицы.
какое-то дикое удовольствие в максимальном напряжении всех своих сил, шел
быстрым шагом, ни разу не остановившись и не опустив на землю чемодана.
Наконец в маленьком темном переулке на Левом берегу, завернув за угол,
образуемый от слияния улицы д'Асса и Монпарнасского бульвара. Глин вошел в
покосившийся подъезд рядом с кондитерской, которая хоть и была еле
освещена свисавшей с потолка лампой, отличалась удивительной чистотой, и
одним духом, перепрыгивая через три ступеньки, взбежал по каменной
лестнице. На втором этаже он остановился, постучал в дверь и, не дожидаясь
ответа, повернул ручку; Стефен вошел следом за ним.
одновременно гостиной и обставленной с мещанской аккуратностью, у стола,
накрытого клеенкой, сидел маленький сутулый человечек лет пятидесяти с
плоским морщинистым лицом и лохматой бородой и, не обращая внимания на
пение облезлого дрозда, порхавшего в клетке у окошка, слегка наигрывал
что-то на окарине, - несмотря на жар, исходивший от раскаленной печки, он
был в старом черном пальто с поднятым воротником и в черном котелке. При
виде Глина глаза его, ясные и по-молодому задорные, приветливо
засветились. Он положил инструмент и, встав со стула, по-дружески и вместе
с тем чинно поцеловал Ричарда в обе щеки.
объятий, - я привел тебе постояльца. Это мой друг, Стефен Десмонд.
- в этом пристальном взгляде было что-то наивное и в то же время
благожелательное.
другом. Извините, мсье Десмонд, что я принимаю вас в таком виде. Ричард
знает, как я боюсь сквозняков.
Порой я нахожу свою душу изумительной, а порой отталкивающей. Сегодня, - и
он печально улыбнулся, - я рад всему, что может отвлечь меня от моих
мыслей.
разумеющееся. - Рад вас видеть у себя в доме... Во всяком случае, пока что
это мой дом, хотя вообще-то он принадлежит мсье Биску, кондитеру. Но это
не важно. Мы ведем здесь жизнь отшельников, вдали от женской красоты и
блеска мимолетной славы, ради создания шедевров, которые получат признание
через тысячу лет после нашей смерти.
воскликнул Глин.
вдохновляют. - Пейра повернулся к Стефену. - Вы бывали в Испании?
Авила-де-лос-Кабальерос... Монастырь стоит в Кастилии за гранитными
стенами, словно корона в окружении диких скал, а вдали синеют горы
Гредос... летом его жжет палящее солнце, зимой - леденит стужа.
заглядывал в церковь и говорит омерзительнейшие вещи про папу, испытывает
какое-то дурацкое благоговение перед святой Терезой.
древней Кастилии, которая возродила к жизни традиции древнего ордена,
попранные этими сплетницами и лентяйками - кармелитками. Она с умом
взялась за дело, действуя, где - обаянием, а где - скромностью, где -
молитвой, а где - непреложностью доводов, сочетая долготерпение святой с
твердостью морского капитана. К тому же она была поэтессой...
Предоставляю вам знакомиться друг с другом. Я жду тебя завтра у себя в
мастерской, Десмонд, в семь утра. Доброй ночи.
руку.
он.
9
наполненная неустанным трудом, совершенно противоположная его недавним
представлениям о жизни художника. Жером Пейра, известный всему кварталу
Плезанс как "папаша Пейра", происходил из самых низов: родители его, ныне
умершие, о которых он говорил всегда с гордостью, были всего лишь простыми
крестьянами, обрабатывавшими несколько жалких гектаров земли близ Нанта.
Сам Пейра тридцать лет провел на государственной службе; это был
образцовый мелкий чиновник в бумажных нарукавниках и пиджаке из альпака,
который целыми днями корпел над пыльными папками во Дворце правосудия. За
всю свою жизнь он только раз выезжал за пределы Франции - и то в качестве
третьестепенного лица в юридической комиссии, направленной в Индию. Там он
проводил все свободное время под высокими пальмами и раскидистыми
деревьями Калькуттского зоосада в наивном и восторженном созерцании
животных за решеткой. Через несколько месяцев после его возвращения на
родину среди чиновников министерства произошло сокращение, и Пейра вышел
на пенсию, столь ничтожную, что ему едва хватало на хлеб. Затем,
совершенно неожиданно - ибо прежде он никогда не проявлял ни малейшего
интереса к искусству, - в нем проснулся художник, и он начал усиленно
писать. Да не только писать, но и со спокойной совестью считать себя
гениальным. Никогда в жизни не взяв ни одного урока живописи, он писал
портреты друзей, писал улицы, уродливые здания, свадебные кортежи, заводы
в banlieue [предместье (франц.)], букеты цветов, зажатые в чьей-то руке;
он писал композиции на фоне джунглей: обнаженная женщина с высокой грудью
и могучими бедрами верхом на рычащем тигре среди сложного переплетения
пальм, лиан, орхидей всех цветов, целого вымышленного леса, буйного и
диковинного, населенного змеями, прыгающими обезьянами, сцепившимися друг
с другом, словно в смертельной схватке, - работа над подобными темами
бросала его то в жар, то в холод, и, чтобы не потерять сознание, он,
несмотря на боязнь простуды, распахивал настежь окно.
выставлявшиеся для продажи по цене пятнадцать франков за штуку в витрине
его приятельницы, мадам Юфнагель, почтенной вдовы, которая держала магазин
дамских шляп на той же улице, через несколько домов, и к которой он питал
вполне благопристойное чувство уважения. Если не считать Наполеона Кампо,
торговца красками, который забирал картины в уплату за материалы, выданные
Пейра, - судя по слухам, на чердаке у Кампо скопилось немало всякого
хлама, вышедшего из-под кисти голодающих художников, - никто не покупал
картин Жерома, они служили лишь поводом для добродушного, но неуемного
веселья его соседей по улице Кастель. Однако Пейра упорно продолжал
писать, и, хотя частенько нуждался, все же ему удавалось кое-что
подзаработать и таким образом округлить свою скудную пенсию. Помимо
окарины, на которой он играл для собственного удовольствия, а также
французского рожка, он имел некоторое представление о скрипке и кларнете.
Это дало ему основание написать несколько объявлений, которые он, надев
свое лучшее платье, и решил самолично распространить среди жителей своего
квартала.





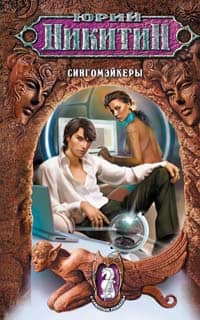
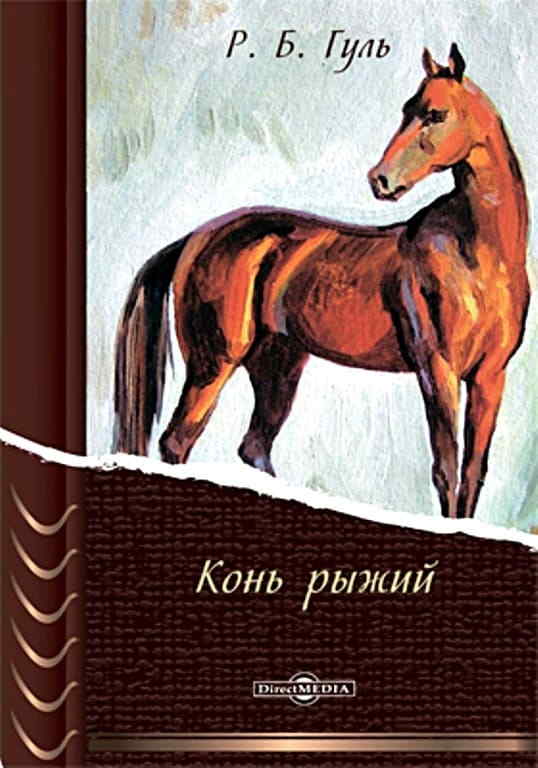 Гуль Роман Борисович
Гуль Роман Борисович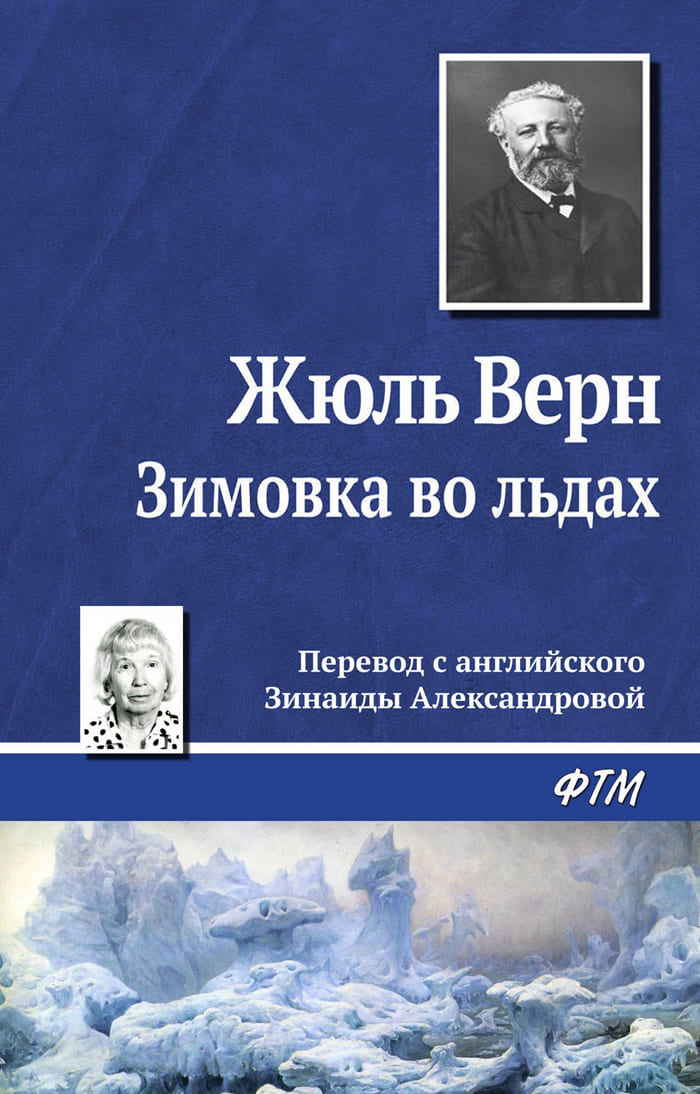 Жюль Верн
Жюль Верн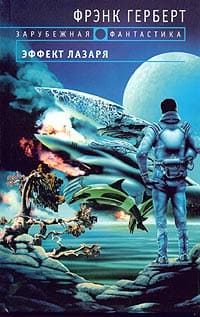 Херберт Фрэнк
Херберт Фрэнк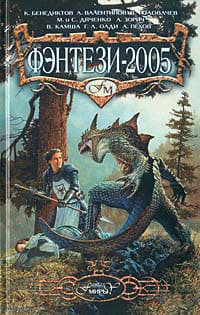 Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Конан-Дойль Артур
Конан-Дойль Артур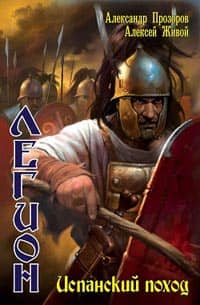 Прозоров Александр
Прозоров Александр