Иван Иванович Лажечников
Басурман
(1792-1869). В центре повествования - образ Ивана III. показанный автором на
фоне возрождающейся Московии, сбросившей татарское иго.
* Часть 1 *
* Часть 2 *
* Часть 3 *
* Часть 4 *
ПРОЛОГ
великой, Дмитрий Иванович, всея Руси... на многая лета!"
Иоанновича, внука Иоанна III.
и изукрасилась. Собор Успенский, церковь Благовещения, Грановитая Палата,
Теремный дворец {Прим. стр. 4}, Кремль с своими стрельницами, множество
каменных церквей и домов, рассыпанных по городу, - все это, только что
вышедшее из-под рук искусных зодчих, носило на себе печать свежести и
новизны, как бы возникло в один день волею всемогущею. Действительно, все
это было сотворено в короткое время гением Иоанна III. Кто оставил бы Москву
за тридцать лет назад бедною, ничтожною, похожею на большое село,
огороженное детинцем {Прим. стр. 4}, не узнал бы ее, увидав теперь. Так же
скоро и вся Русь поднялась на ноги по одному молодецкому окрику этого гения.
Взяв исполина-младенца под свою царскую опеку, он сорвал с него пелены и не
по годам, а по часам воспитал его на богатырство. Новгород и Псков, не
ломавшие ни перед кем шапки, сняли ее перед ним {Прим. стр. 4}, да еще
принесли в ней свою волю и золото; иго ханское свержено и переброшено за
рубеж земли русской {Прим. стр. 4}; Казань хотя отыгрывалась еще от великого
ловчего {Прим. стр. 4}, но отыгрывалась, как волчица, которой некуда утечь;
уделы сплавлены и выкованы в один могучий особняк, и тот, кто все это
сотворил, первый из русских властителей воплотил в себе идею царя.
радостному, а печальному торжеству. Иоанн, изнемогая и духом и телом, лежал
на смертном одре. Он забывал свои подвиги, он помнил только грехи свои и
каялся в них.
пузыри окон светились в домах огни, зажженные верою или нуждою. Нигде
народная любовь не теплила их, потому что народ не понимал заслуг Великого и
не любил его за нововведения. В одном углу казенного двора черная изба
позднее других домов осветилась слабым огоньком. На пузырную оболочку окна
ее железная решетка с ершами отбросила клетчатую тень, которую, однако ж,
пестрила точка, то блестящая, как искра, то вьющая струю пара. Знать, узник
провертел отверстие в пузыре, чтобы, украдкою от своего сторожа, глядеть на
свет божий.
казалось не больше двадцати лет. Так молод! Какие же ранние преступления
могли привести его сюда? По лицу его не веришь этим преступлениям, не
веришь, чтобы бог создал такую обманчивую наружность. Так пригож и
благовиден, что, кажется, ни один черный помысел не пробежит по спокойному
челу, ни одна страсть не заиграет в его глазах, исполненных любви к ближнему
и безмятежной грусти. И между тем статен, величав; как встрепенется из
дремоты своей, как тряхнет черными кудрями, виден забывшийся господин, а не
раб. Руки его белы, нежны, словно женские. На косом вороте рубашки горит
изумрудная запонка; в сырой закопченной избе на широком прилавке пуховик, с
изголовьем из мисюрской камки {Прим. стр. 5} и с шелковым одеялом, а подле
постели ларец из белой кости филиграновой работы. Видно, не простой узник!
неземной. Все его преступления в венце, которого он не искал и который
надела на него прихоть властителя; никакой крамоле, никакому злу не
причастный, он виноват за чужие вины, за честолюбие двух женщин, за
коварство царедворцев, за гнев деда {Прим. стр. 5} на сторонних, не на него
ж. Ему назначили царство, и отвели в тюрьму! Он не понимал, почему венчают
его, и теперь не понимает, за что его лишили свободы, света божьего, всего,
в чем не отказывают и смерду. За него ближние и молиться не смеют вслух.
Дмитрий Иоаннович.
чернокудрой голове, то вставал, то ложился. Он метался, как будто дали ему
отраву. Никого с ним не было. Одинокий огонек освещал его бедное, несчастное
жилище. Тишину избы нарушали капель с потолка или мышь, подбиравшая крохи от
трапезы узника. Огонек то замирал, то вспыхивал, и в эти переливы света,
казалось, ползли по стене ряды огромных пауков. В самом же деле это были
каракульки на разных языках, начертанные углем или гвоздем. Едва можно было
разобрать в них: "Matheas", "Марфа, посадница Великого Новгорода", "Будь
проклят!", "Liebe Mutter, liebe A..." ["Дорогая мать, дорогая А..." (нем.)]
и еще, еще какие-то слова, разорванные струями, которые текли по стене, или
стертые негодованием и невежеством сторожей.
вошедшего за другого, присовокупил с грустью: - Ах, это ты, Небогатый!.. Что
ж нейдет Афоня?.. Мне скучно, мне тошнехонько, меня тоска гложет, будто змея
подколодная лежит у сердца. Ведь ты сказал, что будет Афоня, когда огни
зажгут в домах?


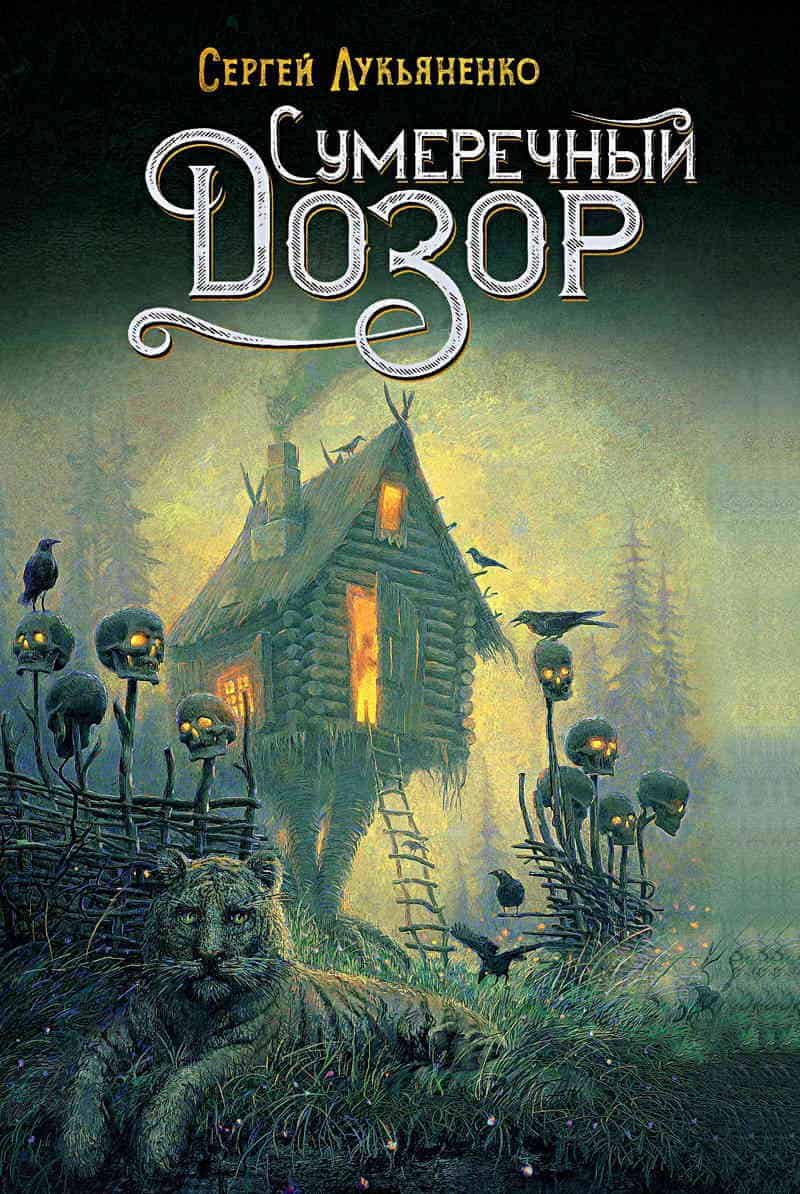
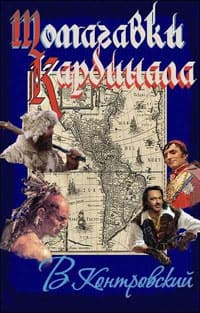
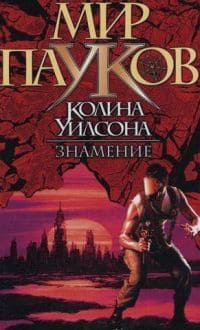

 Шилова Юлия
Шилова Юлия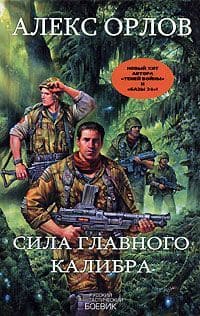 Орлов Алекс
Орлов Алекс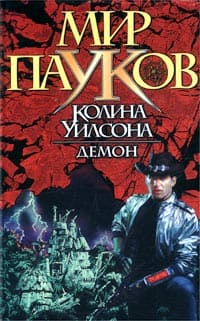 Прозоров Александр
Прозоров Александр Лукин Евгений
Лукин Евгений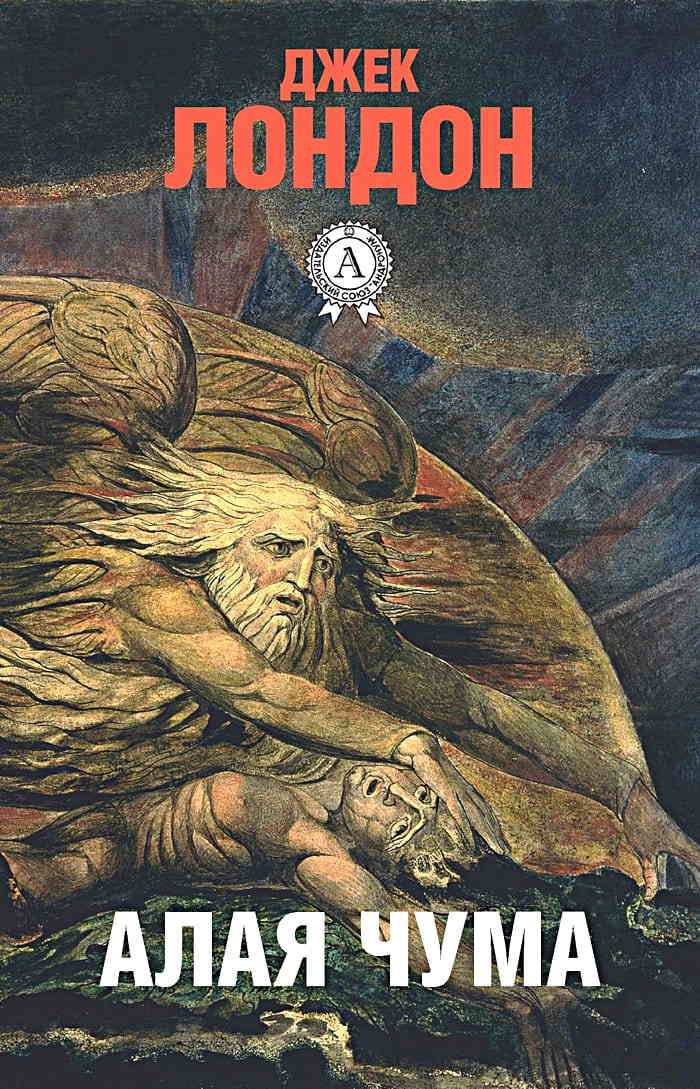 Лондон Джек
Лондон Джек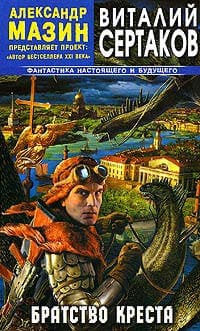 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий