княжич Иван! Ох, ох, кабы не Олена Волошанка, быть бы тебе княгиней;
царь-государь миловал бы тебя, целовал бы во малиновы уста. Стала бы ты, моя
голубица, покоить и меня на старости лет, под кунье одеяльце, на лебяжьи
пуховики укладывать, в золот-атлас рядить, медами крепкими поить. Надо же
было на беду подвернуться Волошанке {Прим. стр. 208}, да помутить наше
счастье, отнять у нас женишка дорогого, незаменного. Приехала сюда на Русь,
только что жидовскую ересь к нам привезла с дьяком Курицыным. Чтобы дьяку
поганому да ей тут же ни пути, ни дороги! Посмотри, сударик-то мой, Иван
Иванович, как грустен да пасмурен, словно вчера овдовел. Все по тебе тужит,
моя родная. Поравнялся со двором нашим, не утерпело молодецкое сердце,
посмотрел-таки сюда умильно. Вот и стяг государев везут на возу. Смотри, как
полощется по ветерку. Крестись же, родная, на лик спасителя...
сидя на своей кровати, машинально крестилась. Мамка продолжала:
молодцы, будто писаны! Не угадать: может статься, один тебе и суженый,
Настасья Васильевна. Это что?.. Господи, светы мои! Посмотри, не морочат ли
меня глаза на старости. Ахти, это он, воистину он, голубчик наш, соловушко
наш, Афанасий Никитич. Босые ноженьки его спутаны железами, а ручки заложены
назад и залиты оловом.
караулом недельщиков. В чем же бедного вина? за что такое наказание? А вот
за что. Иван Васильевич, проведав, что он тверской уроженец, знает каждый
пригорок и каждый куст около Твери, велел ему языком идти с полками да,
подойдя под Тверь, сказывать, о чем его спросят. На это Афанасий Никитин
отвечал:
прикажи он мне утопиться - утоплюсь, только на родной град, на Спаса
златоверхого, врагом не пойду. Скорей своею кровью захлебнусь, чем соглашусь
навести войско на кровь моих родичей и братьев.
Торгаш, лапотник! Сковать его в железа и неволею вести на Тверь. Коли не
хочет указывать нам дорогу туда, так мы ему кажем и подалее.
мерно гремели по улице, и мамка стала под них причитывать жалобную песнь. На
эти звуки, раздирающие душу, Анастасия встрепенулась. Она вынула из своего
костяного ларца несколько пул {Прим. стр. 209} и велела мамке снести к
бедному пленнику.
не потерять удовольствия зрелища, - отнесу, хоть бы сам Иван Васильевич
стоптал меня конем своим. Да вот и наш басурман... Он что тут?.. Побежать,
родная, побежать, не опоздать.
и увидела, что милый Антон предупредил ее.
с жилищем ее, если не с ней, может быть навсегда, догнал большой полк,
идущий в поход, увидал бедного Афанасия Никитина, с которым познакомил его
Андрюша и который не раз беседовал с ним о жизни и природе на Западе, и
спешил подать страже его горсть серебра. Афанасий Никитин с благодарностью
взглянул на лекаря, но недельщик отворотился от басурмана, и серебро
рассыпалось по деревянной мостовой. В это время подбежала мамка, подала
недельщику деньги своей боярышни; этот перекрестился и принял их. Со стыдом
и негодованием отъехал Антон. Можно вообразить, с какими чувствами дочь
Образца смотрела на эту сцену. Все отвращалось от басурмана, а она,
несчастная, очарованная неземною силою, так много, так неодолимо любила его.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
охотники были уже под Тверью. Сотни этих удальцов, под воеводством Хабара,
наводили страх на нее; то являлись в посадах с гиканьем и криком, с вестью о
разорении и гибели, то исчезали в тверских лесах, унося с собою и следы
свои.
преданы Иоанну и куплены им заранее в собственных домах их; мало, что
выведал все слабые стороны неприятельской засады: он переплыл Волгу и
установил сообщение с войском, которое шло из Новгорода, под начальством
тамошнего наместника. Возвратясь на правый берег, дал знать великому князю
Ивану Васильевичу, что с своими сотнями московских удальцов берется взять
Тверь. В помощь просил только Аристотелеву пушку. Так обнашивал
Хабар-Симский ясного сокола, свою ратную удаль, вместе с достойными
пайщиками ее.
медлителем, приказал через гонца сказать свое ласковое слово, первое Хабару,
а второе всем охотникам, и известить их, что он идет. И пошел он по-прежнему
черепаховым ходом. Первого, кто осмелился слишком громко роптать на эту
медленность, великий князь московский пожаловал - построил ему на
перекрестке дорог высокие хоромы на двух столбах с перекладиной {Прим. стр.
210}. Афанасию Никитину снарядили такой же почет. Он готовился умереть с
твердостью христианина, но лишь только хотели накинуть на него роковую
петлю, его освободили и отпустили на все четыре стороны. Сделано ли это по
просьбе Иоанна-младого или по собственному побуждению великого князя,
неизвестно. Разумеется, тверчанин побрел в противную от Твери сторону, чтобы
не быть свидетелем пожара и разорения родного города. На дорогу бояре и
простые воины снабдили его щедрыми дарами, а лекарь Антон бальзамом для рук,
болевших от горячего олова, которым они были залиты. Кто встречал его, не
слыхал от него жалобы ни на великого князя, ни на судьбу свою. Молясь и за
князя и за простых людей, а более за сохранение родного города от гибели, и
славя одного господа, он поспешил в Москву доканчивать недосказанные сказки.
Тут останавливались с ним Иоанн-младой, дворчане, большой полк с государевым
стягом, Аристотель с огнестрельным орудием и неразлучный касимовский царевич
Даньяр. Этого он особенно любил и жаловал за верную, испытанную его службу
Руси. На нем особенно хотел он показать, как выгодно татарам переходить под
покровительство русского властителя. Прошло уж более недели, как полки
выступили из Москвы. Было время дня, когда солнце гонит росу и прохладу
утреннюю. День был прекрасный; все в природе улыбалось и ликовало появлению
лета: и ручьи, играющие в лучах солнца, все в золоте и огне, и ветерок,
разносящий благовоние с кудрей дерев, и волны бегущей жатвы, как переливы
вороненой стали на рядах скачущей конницы, и хоры птиц, на разный лад и все
во славу единого. Эта волшебная улыбка, это ликование природы растопили и
железную душу Ивана Васильевича. Переехав речку за селом Чашниковым, он
велел разбить шатер свой на высоте и полкам тут же, вокруг, расположиться
заимкой. Он въехал на высоту, скинул свой коран (военный плащ) и сошел с
лошади. Все это делалось с помощью различных дворских чинов: обряды
наблюдались и в поле; и в поле хотел он казаться царем.
окрестностью.
природы - может быть, наследственной от первобытного жильца земли, - царь ли
он или селянин, любит располагать свои жилища на красивых местах. Одна
нужда, одна неволя загоняют его на безводные равнины, в леса, по соседству
болот. В выборе местности для русских городов и царских увеселительных сел
особенно заметна эта любовь. Иван Васильевич, любуясь живописною картиной,
которую развернул перед ним великий художник, вспомнил свои села: Воробьево,
Коломенское, Остров, свое Воронцово поле, где он встречал весну и провожал
лето в удовольствиях соколиной охоты и прогулок по садам. Пока разбивали
шатер его, он сел на складное кресло, которое всегда за ним возили. Вокруг
него стояли Иоанн-младой и несколько ближних дворских людей. Между ними
заметен был сутуловатый татарин, который свободнее других обращался с
великим князем. Это был касимовский царевич Даньяр, предмет особых попечений
его [Во многих грамотах того времени видна примечательная заботливость о его
благосостоянии. (Прим. автора)]. В виду их под гору бежали Андрюша и
семнадцатилетний сын царевича, Каракача: один - тип европейской красоты, с
печатью отеческой любви творца к своему творению на всей его наружности,
другой - узкоглазый, смуглый, с высунутыми скулами, зверообразный, как будто
выполз на свет из смрадной тины тропиков вместе с гадами их, с которыми
смешал свою человеческую породу. Каракача поймал голубя и собирался
разрубить его ножом; Андрюша вступил в борьбу за крылатого пленника: уступая
татарину в силе, но гораздо сметливее и ловче его, он успел выхватить
вовремя жертву и пустить ее на волю. За минутною ссорой последовала мировая,
заключенная уступкою какой-то монеты, которая очень нравилась татарскому
царевичу. Оба, сбросив с себя тяжесть вооружения, спешили освободиться от
жара, их томившего, в студеных водах речки. Товарищество во дворе
великокняжеском, куда они каждый день ходили, будто в школу, сближало их и
заставляло забывать различие их вер и нравов (Каракача был еще магометанин).
татарскому и художнику. - Будут знатные воеводы у сына моего, коли бог не
даст мне самому их дождаться.


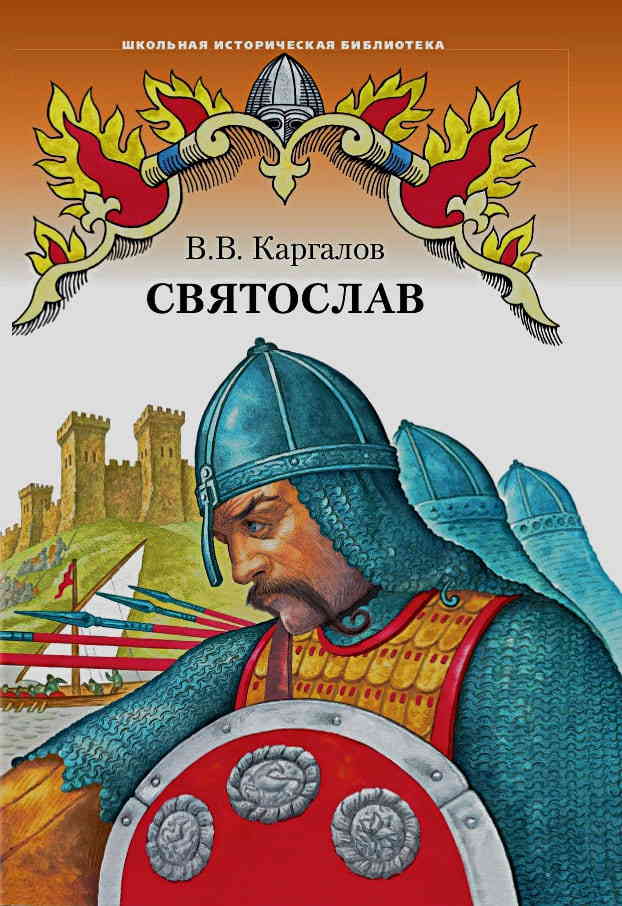

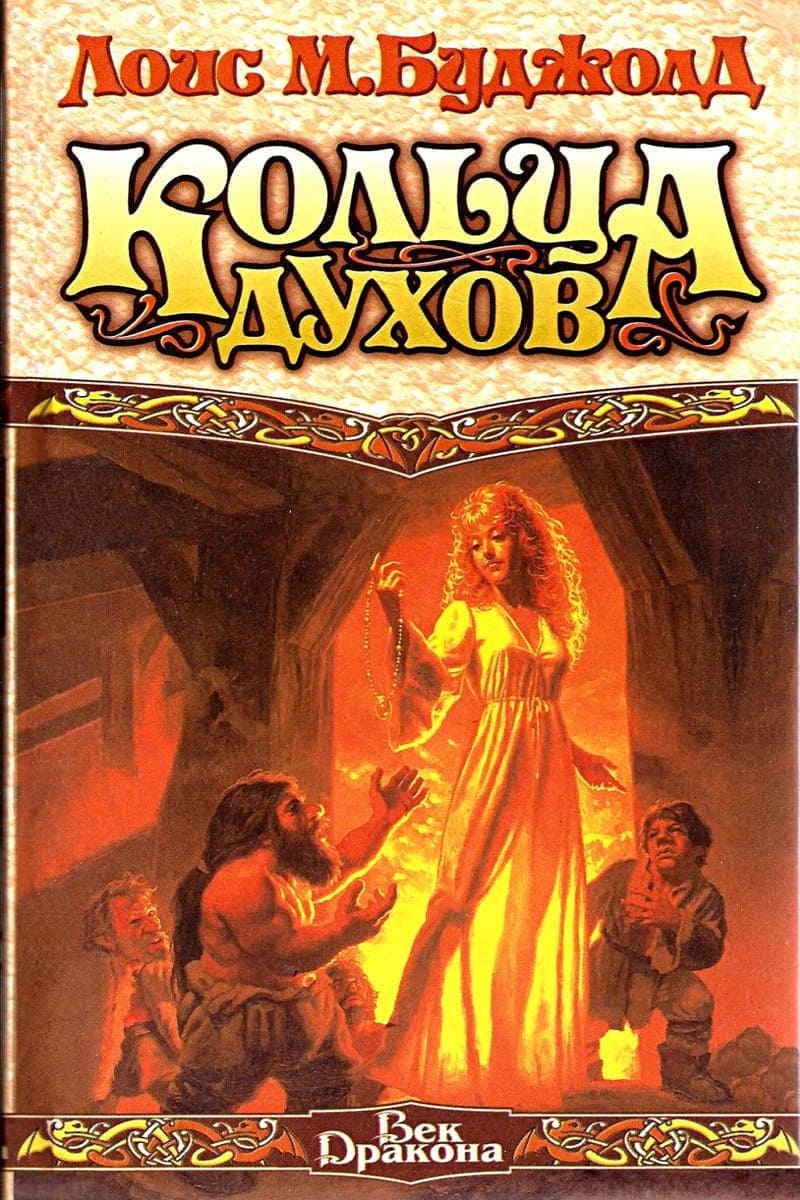

 Никитин Юрий
Никитин Юрий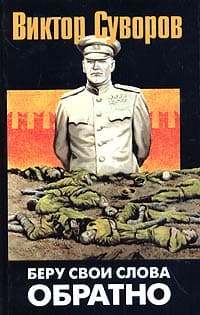 Суворов Виктор
Суворов Виктор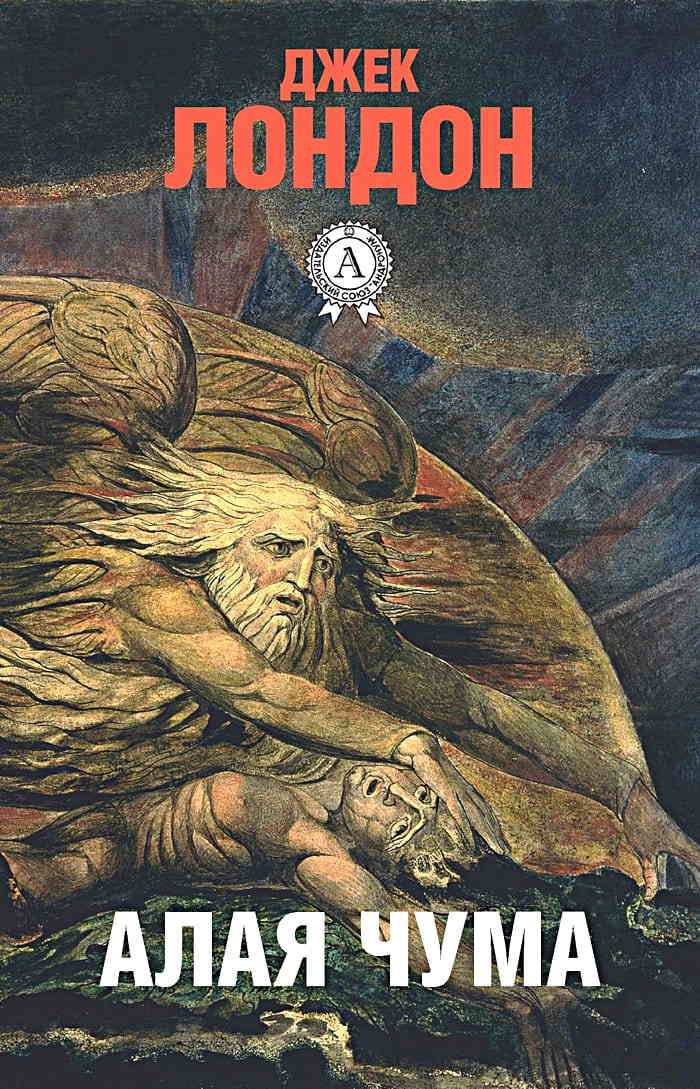 Лондон Джек
Лондон Джек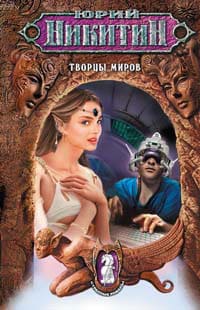 Никитин Юрий
Никитин Юрий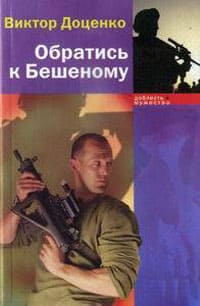 Доценко Виктор
Доценко Виктор Корнев Павел
Корнев Павел