Голуби окунаются в холод, ворона чертит ровные, бесшумные круги...
ребятки, как пропылившиеся ветхие старички, как пузатые купчины с ярлы-
ками вывесок, который - чем богат.
Неприступен в те минуты и телом прям Быхалов, как человек, поставленный
к рулю. Губы у него так же жестко сложены, как и у Николы, истового пок-
ровителя зарядских дел. А тут народ начинает приходить.
выбивая дробь. Ему - "рубца на пятачок, за две - огурец, да горчички, да
семитку сдачи". Извозчик входит, синей тушей вгоняя холод в лавку: -
"ухх-те, Зосим Васильич. Пеклеваннички есть?" Дудин Ермолай, скорняк,
седой и взъерошенный, страшный по нелюдской своей худобе, с кашлем про-
совывается сюда же.
грыз! - гудит из-за прилавка Быхалов, кивая на огромную, снегом, как мо-
хом, обросшую кадь. - И, право, орехов бы тебе. Ты купи у меня фунт и
грызи. Зубов у тебя мало, надолго хватит.
- Не пить, так это бунт даже против государства... для нас и устроено, -
звучными, жадными глотками пьет он терпкий ледяной рассол. - И потом как
это вы сказали? Оре-ехи? - нездоровый Дудинский смех разом наполняет всю
лавку: - Орех, Зосим Васильич, вещь наивная! Только пузырь об него заса-
ривать, а пользы-действия, извините, никакой!
смотри, не пропей.
каким-то извивающимся тенорком, а старушонка, пришедшая за ваксой, из-
рядным басом. Кажется, что даже и Никола из киота, и керосиновая бутыль,
и пятифунтовик на весах усмехаются над незадачливым скорняком.
не возьмем. А орехом ты меня не потчуй. Да что ж я, лошадь, что ли, оре-
хи-то грызть?! Эхе-кхе...
шин, древний шапошник с четвертого этажа, придя за ситником, тихонечко
вразумляет по уходе Дудина:
вось схоронил. Вот и проклаждается на радостях, что ослобонился.
мимо фортки - очень нехорошо. У него даже крысы перевелись. По моему,
так даже воспретить бы таким!..
мя. Шубы влезают и кацавейки, и чуйки, рыбье пальтецо захудалого чинов-
ного умника и купеческой родственницы пудовый дипломат. Шелестит ссыпае-
мое пшено, стучит хлебный нож, звенят медяки. Пустеют хлебные полки, ху-
деют сахарные бочки, обнажается днище керосинового чана, захлебывается
маслом обмерзший жестяной насос. И шумно, и тесно. Небыстрыми ручейками
течет серебро в дубовый хозяйский ящик, туда же прыгают темные, как лики
московских Никол, пятаки...
зом обожженный докрасна, пятак.
ников, принимало Зарядье и платило им не поровну, а по тихости или по
буести их.
щим и неспокойным - Ермолай Дудин, лукавым и тихим - Петр Секретов. На
них, на трех глядел Сеня и детским смыслом угадывал, что между ними
где-то поместит жизнь и его самого. Все трое были совсем разные, - это
город нашел в них разницу и подразделил их.
рядье. И Зарядье в лице шапошника Галунова Степушку не отринуло, а при-
няло и вынянчило, кинуло ему хлебца, чтоб жил, выделило койку, чтоб
спал... И сказало Зарядье Катушину: "будь шапошником, Степан". И с тех
пор, повинуясь строгому веленью, стал он быстрой нестареющей рукой прос-
тегивать картузы и меховые шапки для покрытия чужих голов. Сам же так и
пробегал всю жизнь, чуть ли не в той же самой ушаночке, в которой выбро-
сила его деревня.
разбитых и бумажкой проклеенных очков. Сорок три года, неустанно тачая
Галуновский товар, на машине ли, на руках ли, глядит он из крохотного
каменного оконца на нетеплые светы рассветного городского неба, на чер-
ные облачные тени, приглушающие день. Кажется: он и не изменился нис-
колько, только глаза слезиться стали, да колени отказываются держать.
Только в том и разница, что раньше выжидал себе Степан Леонтьич кусочек
счастья, небурного и умеренного, а теперь ждет, когда вынесут его отсюда
ногами вперед в последний приют, за Калужскую заставу.
чок, одному унести, да корзиночка. В сундучке покоилось ветхое белье,
еще часы с продавленной крышкой, завод ключом, еще пиджачок матерчатый,
еще заново подшитые сапожки. А поверх всего, чтоб не искать чужому, оби-
ходные лежали вещи на его смертный обряд: фунт тощих панихидных свечей,
миткалю и сарпинки два равных отреза, ладан в аптечной коробочке и
деньги, семнадцать с полтиной, чистая прибыль Катушинской жизни в руб-
лях.
обойных обертках, с пятнами чужих незаботливых рук. Были книжки те напи-
саны разными, прошедшими незаметно среди нас с незатейливой песней о
любви, о нищете, о полынной чаше всяческого бытия. Главным в той стопке
был поэт Иван Захарыч, а вокруг него ютились остальные неизвестные певцы
не известных никому печалей. Поверх стопки спрятались от мира в синюю
обертку и собственные Катушинские стишки.
шитье, писал незамедлительно стишок: и его отвезут однажды, а в могиле
будет стоять талая весенняя вода... Май стучал в стекла первым дождем -
пополнялась тетрадка новым стишком: рощи зашумят, соловьи запоют... а о
чем и петь и шуметь им, как не о горькой доле подневольного мастерового
люда. Самому Катушину и знать: солгал ли он в стишках своих хоть раз. -
Он-то и приютил Сеню в добром и тесном своем сердце.
подчердачный Катушинский этаж, близко к зимнему небу. Сеню обучал Кату-
шин грамоте. Вряд ли и было у Катушина за всю жизнь большее оживление,
чем в тот вечер, когда написал Сеня первые четыре неграмотных слова. То
хлопал он себя по заштопанным коленкам, то разглаживал трясущейся рукой
твердую пакетную бумагу, то подносил ее к свету...
огнями ночь. Острые прохладные ручейки небывалого возбуждения бежали по
его спине. Хотелось невозможных, убыстренных движений, и в скрипе отор-
ванной железки за окном чудился ему неясный и властный зов.
книжки тоненькие, хорошие. Я толстых не читаю, голова от них разламыва-
ется. А тоненькую прочтешь, точно в баньку сходишь. Банька - слабость
жизни моей.
отличного от него. Сюда же однажды привел Сеня и брата.
широкоспинный, камнеобразный, симпатиями хозяйскими не овладел.
сказал хозяин Пашке, приведенному Брыкиным, давая для нравоучительности
легкий подзатылок. - Ты мне товар вози. Хром, так ведь дело неспешное.
Съездил раз в день, и то прибыль.
другому видел, и потому детство казалось ему глупой нарочной обидой.
Когда случилась коровья беда и односельчане били Пашку, половинку чело-
века, Пашка молчал, не унижаясь до крика или жалобы, - только прикрывал
руками темя. Темя было самым больным местом у Пашки, там он копил свою
обиду. Он и на мир глядел не просто - птичка летит, а облако плывет, а
береза цветет - а так, как отражены были все эти благости в темном озере
его невыплаканных, непоказанных миру слез. Пашка на мир глядел испод-
лобья, и мир молчаньем отвечал ему.
ных шалостей Пашка вступил в жизнь. А жизнь поджидала его не медовым пи-
рожком. У Быхалова с утра влезал он в дырявые валенцы, впрягался в санки
и так, хромой и хмурый, возил по городу Быхаловскую кладь, без разбора
времени, по мостовым и сугробам, в дождь и снег, лошадиным обычаем.
обида к вороху прежних. Карасьев, в припадке игры воображения, посылал
его в аптеку купить на пятачек деру и на гривенник дыму. Пашка не знал,
бывают ли подобные товары, а аптекаря злы... И до сих пор еще стыдом и
болью горели Пашкины уши.
плача за брата. Дудин слушал, ерзая и поминутно кашляя, Катушин - с
грустью глядя в пол.
бы... - у него задрожали губы и руки быстрей затеребили тонкий коломен-
ковый поясок.


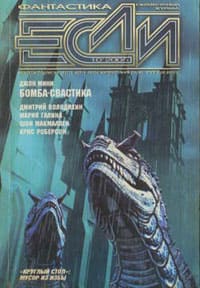
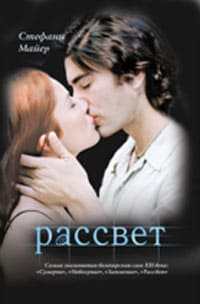


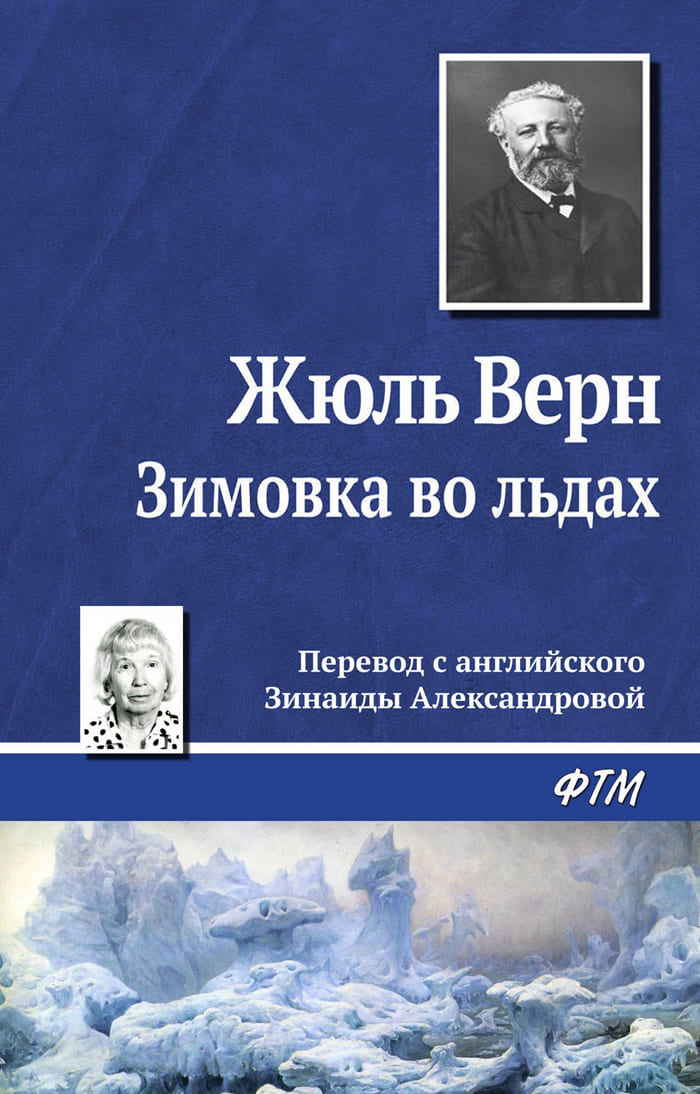 Жюль Верн
Жюль Верн Маркеев Олег
Маркеев Олег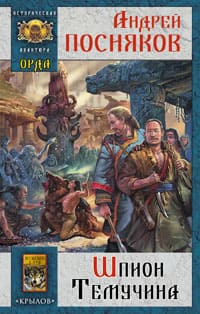 Посняков Андрей
Посняков Андрей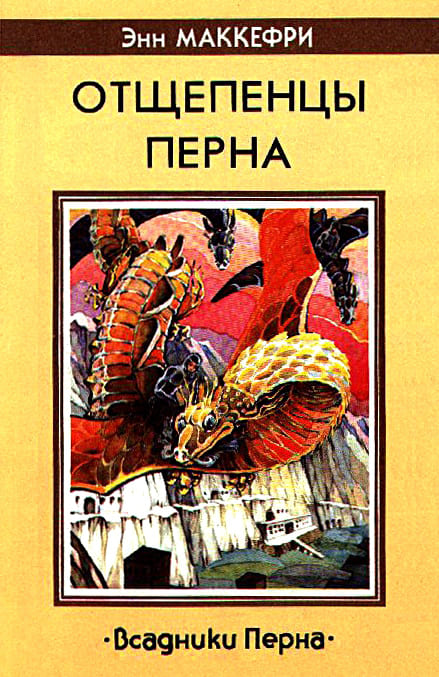 Маккефри Энн
Маккефри Энн Корнев Павел
Корнев Павел Зыков Виталий
Зыков Виталий