ведь он прав, пожалуй, ведь ты ограбил его, Брыкина! Ведь он только и
сделал за весь свой срок... Ничего, ты не хмурься! Ты мне даже ближе те-
перь, потому что я знаю про тебя. Ты непонятный, а я понимаю! Ну-ну, не
сердись... - она сделала движенье поцеловать его, но Семен откинулся,
как в испуге, и поцелуй пришелся в бороду. - Обстриги! - обиженно броси-
ла она и почти готова была заплакать. Ее взор упал на папиросы, она взя-
ла одну, закурила и тотчас же бросила, недокуренную. - Какие горькие! -
сказала она, кашляя с дымом.
Здесь у меня Семен. Ты слышишь? Уходи, здесь у меня Семен. Я не хочу
больше с тобой. Беги, ну! - кричала она через дверь.
теплилось черное пламя ее глаз.
Все равно теперь! - прибавила она через минуту, садясь рядом.
ке. Вспомнилась родинка Кати, - та была выпуклая. Семену хотелось еще
рассмотреть Настину конопатинку, но в ту минуту фитиль отчаянно мигнул и
потух.
голос его был груб и горяч. Теперь ему уже почти безразлично стало все,
чем грозила близкая весна.
ра Брыкина. Похоже, будто бросили Егора со всего разбега в глубокие воды
людского забвенья: колыхнулись темные и затихли. Одно лишь осталось в
напоминанье. Петька Ад, гонимый по путям жизни добротою большого сердца
и суеверием малого ума, вырубил топором три десятиконечных креста в раз-
латых елях, возле места Егоровой гибели. Три, десятиконечных - потому,
что забыл уже Петька веру отцов и знал одно: чем больше у креста концов,
тем истовей крест, и чем больше самых крестов, тем действительней на
всякую беду. Февральские морозцы хвастливы. Древесина трех елей, обна-
женная крестами, проиндевала, и, когда сумерки, мерцали кресты робкой
инейной белизной.
Настиной связи. Была она подобна последней вспышке бурного огня на дого-
рающем пожаре. Имелась какая-то смутная последовательность в том: ког-
да-то в юности - робкая лампадка в снегу, потому, в снегу же, холодное
горенье папороти, и вот огонь в снегу. Семен, потерянный и скользящий,
целиком отдавался на Настину любовь. Ночи для них стали коротки и недос-
таточны для неистовств задержанной любви.
равнин, тронутая кое-где проталями. Расстояния опять удлинились, и мни-
лись Гусаки в столь дальней стороне, куда не доскакать в неделю даже и
на Гарасимовых конях. Туда теперь уходили Семен и Настя в сопровожденьи
отряда, там и вели свои любовные шалости, по храбрости граничившие с бе-
зумством. О Мишке, безвыходно сидевшем в землянках, вспоминали с
чувством смущенной жалости. - С того вечера, как допрашивал Брыкина, за-
дичал Мишка, стал бросаться в несуразицы, которыми отгораживался от тос-
ки. Сперва хор песельников завел из лежебоков, какие поленивее, - пели
во всю глотку, во весь мокроснежный лес, но через неделю надоело: леса
доверху не накричишь. Потом собрал артель, - столярили столы с господс-
кими капризами, один затейней другого: бесилась остановленная в разбеге
сила. Потом стал Мишка в одиночку гореть: целые ночи усердничал отломком
сапожного ножа над непослушным дубовым поленом. Плохо слушалось дерево,
а резал Мишка в посмешище тоски своей розан неестественной величины. И
все же, едва вечер, шло само собой его воображенье по заветной тропочке,
между можжевеловых кустов, в пустую землянку Насти.
возле, с недоверием глядя на Мишкино изделие. Мишка не откликался и мол-
ча закурил предложенную махорку. - Семь пудов мяса раздобыл, да еще
свинку одну реквизировал! - сообщил Юда. И опять Жибанда не ответил, то-
чил нож на камне, пыхал дымком. - Миша! - заговорил проникновенным голо-
сом Юда, - слушай меня хорошо, Миша. Это ведь я тебе тогда, шапку прост-
релил. Я нарочно так и стрелял, чтоб не убить. Я человек такой, что оби-
ду до конца помню, не могу простить, забыть у меня сил не хватает, я и
хотел напомнить тебе! А я открытый человек, я и говорю тебе: меня бойся,
Миша! Наши дорожки узкие, муравейные. И очень я тебя люблю, а укарау-
лю... Разобидел ты меня, Миша, до слез разобидел!
банда и посмеялся.
попользоваться не дал. Очень плохо! Уж у этого ты теперь не вырвешь,
тю-тю. Я бы и сам мог, без спросу, да без спросу не хочется... Все и де-
ло-то в том, чтоб твое дозволенье иметь. Эх, Миша...
какая-то жила вплоть до самого локтя.
нож. - А ударить ты меня все равно не ударишь... нельзя брата прямо с
лица бить! Хуже потом для тебя же будет, потому что ты человек совестли-
вый, я знаю.
попросил Жибанда, кривя лицо, точно глотал горькое и противное.
ковая. Только кажется, будто есть что-то в ней. Мы таких по прошлому го-
ду... А теперь-то я, может и не стал бы, если ты хочешь знать! Конечно,
как бы лампадочка в ней, затушить лестно... Э, да что там!
новости передам. На станцию я вчерась заходил. Мы-то вот и не знаем еще,
а там уж все... Броненованного поезда ждут завтра. Комиссаром смерти,
вишь, его кличут! - и Юда тихо рассмеялся такому небывалому слову. - Ну,
а ты чего? Ты не горюй, Миша. Не вечно ж нам тут сидеть! Да-кось, я тебе
махорочки отсыплю... вот в эту хоть посудинку! - и он горстями стал на-
сыпать махорку в резной тот цветок, над которым четыре ночи протосковал
Мишка.
Но щель заткнули, и даже слухи смолкли. Шло время, набухали почки на де-
ревьях, шумела теплынь в телеграфных столбах, почти обсушились дороги.
Тут удар: барсуки скувыркнули с насыпи поезд, шедший с продовольствием в
уезд. Не прошло дня, новое: барсуки пьянствуют под самым городом, в быв-
шем монастыре. Еще через день опять: барсуки, числом шестьдесят человек,
с песнями прошли по главной улице уезда и скрылись в неизвестности.
ные, призывающие жалобы. Не было уже в них никаких словесных украшений,
а один сполошный вопль тонущего в бурных водах половодья. Поэтому в гу-
бернии вняли наконец Брозинским призывам. Из губернии был послан товарищ
для обследования. Этот налетел как буря, дал Брозину нагоняй за несооб-
разительность, даже пригрозил сместить. После того товарищ отправился на
мотоциклетке в Гусаки, дабы на месте вникнуть в корень всего дела. Одна-
ко до Гусаков он не доехал, расследования не произвел. Барсуки, осведом-
ленные теперь обо всем, протянули через дорогу проволоку, скрученную
впятеро, как раз на уровне шеи. - Мотоциклет, прокатя после того еще
несколько сажен, завяз в ольховнике, пугая необычным треском вечерних
воробьев, безмятежным чириканьем встречавших весну.
провода. На другой день провода оказались перерезанными. Это всколыхнуло
губернию. За подписями более действительными, чем незначительное имя
Брозина, было послано сообщение в центр. И не прошло дня, как уже, минуя
станции и полустанки, гремя сталью на стрелках, несся поезд туда, где
маячило угрозой бунтовское имя Семена Барсука.
в грязно-талом снегу, и остановился на станции, с которой когда-то ехал
женихаться в Воры Брыкин. На станции еще с утра ждали прибытия каротряда
сам Брозин и председатель уездного исполкома. Имя приезжающего товарища
было уже связано в их представлениях с понятием о спокойной воле и твер-
дой неустрашимости, - то, чего как раз не доставало Брозину. Знали Анто-
на как и неоднократного укротителя многоразличных бурлений, ждали не без
некоторого смущенного волнения.
на вылезший из-под снега песок насыпи, и на дальний бурый лес, и на об-
лезлые стены станционных строений, - сообщая всему тому блекло-оранжевый
отлив. Блестело оранжевое же в рельсах, убегавших, в холодную весеннюю
тишину, блестело в четких паровозных частях, шипящих, дымящихся, истека-
ющих смазкой. Поезд был не бронированный, Юда солгал, но паровоз был хо-
роший, чудом уцелевший от паровозной чумы. Пятнадцать новехоньких теплу-
шек и один пассажирский вагон не составляли для него какой-либо обузы.
наблюдавшим, как из теплушек выскакивали Антоновы люди, и глядел на неб-
ритую, впалую, с обвисшим усом, щеку предисполкома, также окрашенную
светом опускающегося солнца. Огромный простор лежал вокруг, и весь он
трепетал, казалось, животворным весенним вольным духом. - Брозину стало
прохладно в кожаной тужурке.






 Шилова Юлия
Шилова Юлия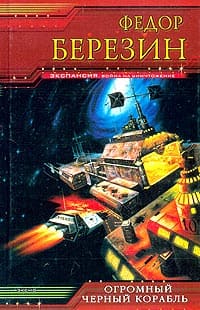 Березин Федор
Березин Федор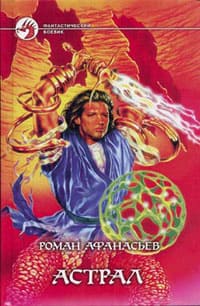 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Василенко Иван
Василенко Иван Земляной Андрей
Земляной Андрей Соломатина Татьяна
Соломатина Татьяна