для того, чтобы утвердиться перед золовкой.
душа в теле. Детей ждать не приходилось. Сэр Джеффри не вынес горя и умер.
2
так и не простила ему "предательства" и поселилась в Лондоне, в маленькой
квартирке.
песчаника, - стояла давно, с середины восемнадцатого века. С той поры к
дому все лепились и лепились бесчисленные пристройки, и теперь дом являл
собою скорее муравейник, нежели дворянское гнездо. Стояла усадьба на
всхолмлении посреди дубравы, но прямо за ней, увы, дымила и чадила
огромная труба - там уже главенствовала шахта Тивершолл, а у подножья
холма, прямо от усадебных ворот начиналась деревня, тоже Тивершолл -
тонувшая в сыром мареве. Собственно деревушку составляли унылые и
безобразные домишки, разбросанные там и сям на добрую милю. Тесные,
убогие, прокопченные дома из кирпича, крытые почерневшим шифером. Фасады
их напоминали искаженные безысходной злобой лица.
Шотландии, к долинам Сассекса. Но и чудовищно бездушное уродство
шахтерского "сердца Англии" приняла с присущими всем молодым твердостью и
решимостью. Приняла сразу. Взглянула и решила - точно отрезала: и лучше об
этом и не думать, хотя такое и в страшном сне не приснится. Из тоскливых
усадебных покоев ей было слышно, как лязгают огромные сита на сортировке,
как тяжко вздыхает и отдувается подъемник, как громыхают вагонетки, как
хрипло в изнеможении гудят шахтовые паровозы. Огонь уже долгие годы
пожирал устье шахты Тивершолл, но погасить его - накладно. Так и горел
огромный факел денно и нощно.
удушливой серной вонью испражнений Земли. Да и в безветренный день тянет
чем-то подземным: серой, железом, углем и еще чем-то кислым. Даже розы,
выращенные к Рождеству, каждый раз покрываются копотью, как черной манной
с небес в Судный день. Глазам своим не поверишь.
вставать на дыбы? Жизнь идет своим чередом, ее не остановишь. На низких
полночных тучах загорались красные точки, играли огненные блики, то
надувались пузырями, то лопались, как волдыри после ожога, оставляя
непреходящую боль. То были шахтные печи. Поначалу они завораживали и
пугали Конни, ей казалось, что она живет в преисподней. Но обвыклась.
Почти каждое утро встречало ее нудным дождем.
нежели Лондон. В этом краю таилась своя угрюмая сила, жили крепкие, с
характером, люди. А что еще, кроме характера, есть у этих людей, думала
Конни. Ничего. Пустые глаза, пустые головы. Люди под стать своей земле:
изможденные, мрачные, безобразные, недружелюбные. А еще таилась страшная
неразгаданность и в гортанном их говоре, и в шарканье тяжелых башмаков с
подковками, когда тянулись по асфальтовой дороге с работы группы шахтеров.
хозяина селяне не устроили. Никто не пришел приветить его, не принес
цветов. И пришлось уныло трястись в машине под дождем по мокрой, темной,
обсаженной угрюмыми деревцами аллее; на холме, где начинался парк, паслись
овцы; чуть выше раскинулась мрачная усадьба. У подъезда, как загостившиеся
и в доме, и на земле постояльцы, робко переминались с ноги на ногу
экономка и ее супруг, готовясь произнести кургузое приветствие.
Встречая господ, мужчины не снимали шапок, женщины не приседали в
полупоклоне. Шахтеры лишь глазели на хозяев; торговцы кивали Клиффорду,
как знакомцу (хоть и смущались при этом), и чуть приподнимали шапки,
здороваясь с Конни. Вот и все почести. Непреодолимая пропасть пролегла
между господами и простолюдинами. А еще их разделяло скрытое презрение
друг к другу. Первые дни Конни очень страдала от этого чувства, изморосью
висевшего в деревенском воздухе. Потом закалила сердце и даже гордилась
своей твердостью. Нельзя сказать, что их с Клиффордом ненавидели. Просто
Конни и Клиффорд - существа иного порядка, нежели шахтеры. И пропасть меж
теми и другими бездонна, они немыслимо далеки друг от друга, как, скажем,
далека река Трент (хотя отнюдь не бездонна). Здесь же, среди заводов и
шахт центральной и северной Англии, меж хозяевами и рабочими никакого
мостика не перекинуть, общения не завязать. Мы на своем краю, вы - на
своем! Странно: ведь и у тех, и у других бьются в груди одинаковые сердца!
делах житейских - не тронь! - и та, и другая сторона замыкались.
веры - напрочь потерял особинку, подчинившись деревенской заповеди.
Шахтерские жены почти все принадлежали к методистской церкви. Сами шахтеры
- ни к какой. Но даже простое облачение отгораживало священника от
шахтеров, те совершенно не принимали служителя культа как простого,
обыкновенного человека. Для них он оставался господином Эшби, этакой
произносящей молитвы и проповеди машиной.
упрямую спесь местных: дескать, хоть вы и леди, мы тоже не лыком шиты. А
чего стоит недоверчивая, насквозь лицемерная улыбчивость шахтерских жен в
ответ на попытки Конни найти с ними общий язык. Как все это странно! И как
обидно! Всякий раз слышишь насмешливые шепотки: "Эка! Надо ж, сама леди
Чаттерли меня словом удостоила! Только пусть нос не задирает, не
воображает, что я - грязь у нее под ногами". Невыносимо! И не избавиться
от этого. Местные на сближение не пойдут, нечего и надеяться!
Она шла по улице, ни на кого не глядя, хотя на нее глазели, как на
заводную куклу. Случись Клиффорду с кем заговорить, он держался надменно,
даже презрительно. Искать с ними дружбы долее - непозволительная роскошь.
Дело еще и в том, что Клиффорд привечал и уважал людей лишь своего круга.
И в этом он был неколебим, никаких уступок и компромиссов! Среди шахтеров
он не снискал ни любви, ни ненависти. Они принимали его как неотъемлемую
часть бытия: как шахты или как усадьбу Рагби.
не хотел никого видеть, кроме домашней прислуги. Ведь ему приходилось либо
сидеть в кресле, либо передвигаться тоже в кресле, но с моторчиком. Однако
одевался он по-прежнему изысканно: шил платье у лучших портных, носил
элегантные галстуки - все как прежде, и, если поглядеть со стороны, он
выглядел по-прежнему красавцем-щеголем. Причем в нем не было слащавой
женственности, столь присущей нынешним юношам. Напротив, широкие, как у
крестьянина, плечи, румяное лицо. Но нет-нет да, и проглядывала его суть:
в тихой неуверенной речи; во взгляде - смелом и в то же время боязливом,
уверенном и нерешительном. И вел он себя то до обидного надменно, то
скромно, даже тушуясь, а случалось, и вовсе робел.
современной молодежи, без каких-либо сантиментов. Игривым, ласковым
котенком Клиффорду уже не стать - слишком великое потрясение выпало ему,
слишком глубоко засела боль. Увечный. И Конни льнула к нему всей своей
сострадающей душой.
по сути - крепостные. И видел он в них скорее орудия труда, нежели живых
людей; они составляли для него часть шахты, но, увы, не часть жизни;
относился он к ним как к быдлу, но не как к равным. А в чем-то даже боялся
их: вообразить страшно, как они будут глазеть на него теперешнего, на
калеку. А их грубый, малопонятный уклад представлялся ему скорее звериным,
нежели человечьим.
неведомые миры в телескоп. Сблизиться с ними и не пытался, как, впрочем, и
ни с кем, разве что с обитателями усадьбы (давно ему привычными) да с
сестрой Эммой (их связывали узы кровного родства и защита семейных
интересов). И больше, казалось, ничто и никто его не касается. Пустота.
Пропасть. И мне до него не дотянуться, - думала Конни. - Ухватиться не за
что. Ведь он отвергает любое общение.
Рослый, сильный мужчина, а совершенно беспомощен. Разве что передвигаться
по дому да ездить по парку он умел сам. Но оставаясь наедине с собой, он
чувствовал себя ненужным и потерянным. Конни постоянно должна быть рядом,
она возвращала ему уверенность, что он еще жив.
принялся писать рассказы: удивительные, глубоко личные воспоминания о
бывших знакомых. Получалось умно, иронично, но - вот загадка! - не
угадывался авторский замысел. Клиффорду не отказать в чрезвычайной и
своеобычной наблюдательности. Но его героям не хватало жизни, связи друг с
другом. Действие разворачивалось словно в пустоте. А поскольку сегодняшняя
жизнь в основном - ярко освещенные театральные подмостки, то рассказы
Клиффорда удивительнейшим образом оказались созвучны современной жизни,
точнее, душевному ладу современного человека.
непременно хотелось, чтобы рассказы нравились, считались великолепными,
непревзойденными. Напечатали их самые передовые журналы. Как водится,
кое-что критика похвалила, кое за что - пожурила. Журьба для Клиффорда
хуже пытки, каждое слово - нож острый. Похоже, в рассказы он вкладывал всю
душу.
каждую мелочь дотошно и обстоятельно, а ей приходилось напрягать все силы



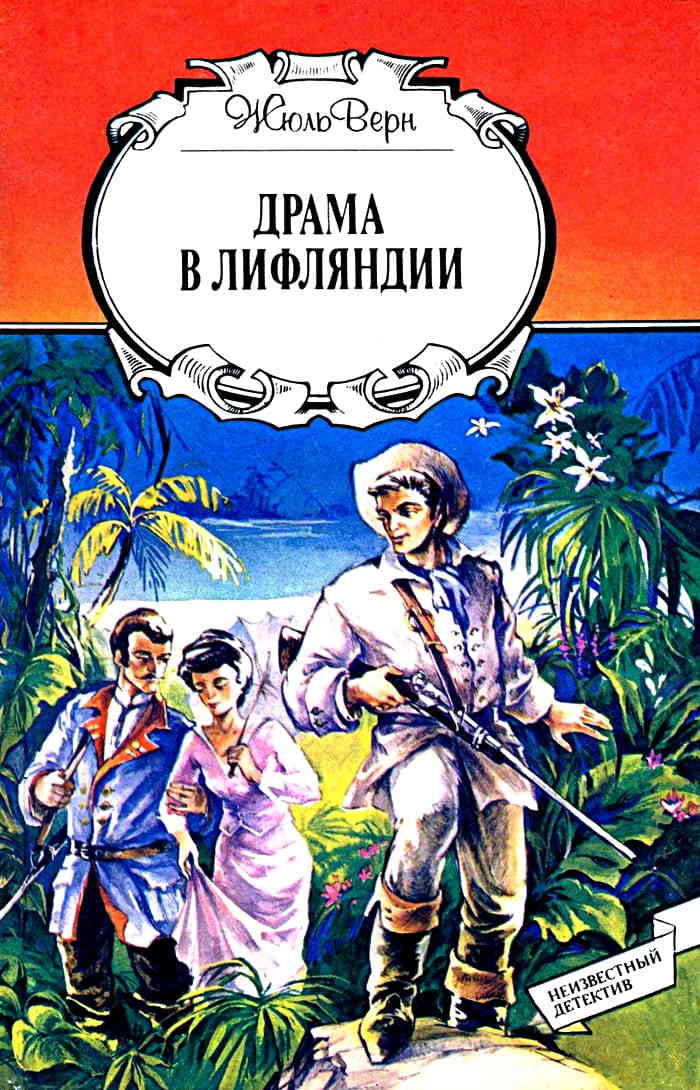


 Браун Дэн
Браун Дэн Шилова Юлия
Шилова Юлия Перумов Ник
Перумов Ник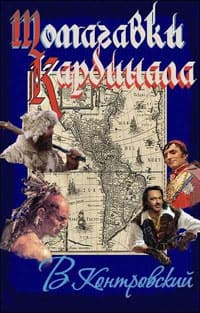 Контровский Владимир
Контровский Владимир Березин Федор
Березин Федор Прозоров Александр
Прозоров Александр