простите, вы меня, пожалуйста, извините, а только через час все молодые
инженеры испортились. Через час испортились. О! А Надежде Васильевна будто
и не понимает: разве испортились, да не может быть! А что ж теперь делать?
А Воргунов: как что делать, вы сами должны знать, что делать! Надежда
Васильевна и сказала на это: я уже догадалась, догадалась: их нужно
пересыпать нафталином. Ой-й-й! (Ой-й-й! - закричала, конечно, вся
четвертая бригада, ноги ее задрались высоко над одеялами.)
свою лысину и так даже печально говорит: у нас, у русских, неправильно, а
надо так правильно: чтобы было видно - здесь любовь, а здесь дело,
говорит, чтобы было разделение, понимаете, разделение. Это у русских, а
еще говорит: дело нужно делать, а они любви намешают, намешают и на
свидание бегают, а дело, говорит, дохнет. Вычитал, вычитал. Надежда
Васильевна обещала: теперь не буду с инженерами о любви говорить, а только
буду про фрезы, про болванки, про вагранку.
нужно про болванку, не нужно! Разговаривайте про соловьев и про воробьев,
а про болванку не нужно, не ваше дело. Он был все недоволен.
а Надежда Васильевна сказала ему: хотите билеты на "Федора Ивановича"?@70
А Соломон Давидович сказал: не нужно таких билетов, я и так знаю, он
зарезал царевича Дмитрия, а я не люблю такого: с какой, говорит, стати
взять и зарезать мальчика, это, говорит, если человек серьезный, так он
никогда такого не сделает, чтоб мальчика зарезать. Производство, говорит,
- это другое дело. И он не захотел билетов.
Ванда снова начали попадаться на скамейках парка в трогательном, хотя и
молчаливом уединении. Молчаливость, впрочем, не была в характере Ванды.
Ванда сильно выросла и похорошела в колонии и целый день где-нибудь
щебетала: то в цехе, то в спальне, то в столовой. А когда в колонию
приехала группа польских коммунистов, вырученных Советской властью из
тюрем Польши, Ванда выпросила у бюро, чтобы ей поручили организовать ужин
для гостей и колонистов, и с этой задачей блестяще справилась: ужин был
богатый, вкусный, блестел чистотой и цветами, и гости, очень тепло
принятые колонистами, в особенности благодарили хозяйку ужина Ванду
Стадницкую. А Ванда сказала им:
русским, и украинцам, и евреям, у нас и немец есть, и киргиз, и татарин.
Видите?
Лену и других. Они выбрали из гостей самого худого, очень за ним
ухаживали, старались получше угостить, а потом они узнали, что этот самый
худой - член местного городского Мопра, и были очень расстроены, даже
плакали в спальнях. Ванда сумела их утешить и обьяснить, что дело вовсе не
в худобе. Ванду любили в колонии и девочки и мальчики, и всем было очень
не по себе, когда все чаще и чаще начали встречать ее с Петром Воробьевым.
Зырянский уже хотел поговорить с Петром, но события в колонии были так
серьезны, что Алеше некогда было думать о Петре Воробьеве. В заседании
совета бригадиров Торский развернул бумажку и сказал:
мать моя, в Самаре, очень нуждается и просит меня приехать. Воленко".
строгий. Торский подождал и спросил тихо:
на одного Захарова, и снова чуть-чуть склоняет ее.
Немножко громче, чем следует, но совершенно спокойно, совершенно уверенно
и совершенно недружелюбно он говорит совету бригадиров.
мне нужно. Разрешение бюро имеется.
молодости, наверное:
то не было этого самого дома...
взглядом с Воленко:
нельзя. Если он говорит, значит, нужно. Мать нельзя бросать. Пускай едет,
надо его выпустить, как полагается для самого заслуженного колониста:
полное приданое, костюмы, белье, из фонда совета бригадиров выдать по
высшей ставке - пятьсот рублей.
старый друг Воленко.
а сказал сердито:
вышел. В совете стало еще тише. Зырянский положил руки на раздвинутые
колени, смотрел пристально в угол, и у него еле заметно шевелились мускулы
рта, оттого что он креп сжал зубы. Нестеренко склонил лицо к самым ногам,
может быть, у него развязалась шнуровка на ботинке. Руднев покусывал
нижнюю губу, Оксана и Лида Таликова забились в самый угол и царапали
пальцами одну и ту же точку на диванной обивке. Один Чернявин, новый
бригадир восьмой, оглядел всех немного удивленным взглядом хотел что-то
сказать, но подумал и увидел, что сказать ничего нельзя.
вежливый. Захаров усадил его на диван рядом с собой, помолчал, потом с
досадой махнул рукой:
вежливость, он опустил голову, произнес тихо:
Думаете, я ничего не понимаю? Я все понимаю: пускай там говорят, а может,
сам Воленко взял часы! Пускай говорят! Я знаю: старки так не думают... а
может, и думают, это все равно. А только... почему в моей бригаде... такая
гадость! Почему? Первая бригада! У нас... в колонии... такое время...
такая работа! И везде... везде люди как теперь работают. А что же
получилось? Или Левитин, или Рыжиков, а может, и Воленко, а может,
Горохов, а может, вся бригада из воров состоит... И все в моей бригаде,
все в моей бригаде. Думаете, этого ребята не видят? Да? Все видят. Я
дежурю, а на меня смотрят... и думают: тоже дежурит, а у самого в бригаде
что делается. Не могу. Я, значит, виноват...
страдал и морщился еле заметно.
и не упрекнут, потому что... и сами не знают... А понимаете... чувство,
такое чувство! Вы не бойтесь, Алексей Степанович, не бойтесь. Я не
пропаду. А может, иначе буду теперь... смотреть. Вы не бойтесь...
к стулу, погладил его лакированную боковинку:
отвечать за себя. Ты умеешь. Правильно. Это... очень правильно! В общем,
ты молодец, Воленко. Только не нужно мучиться, не нужно... Все!
пальто с деревянной некрашенной коробочкой под мышкой.





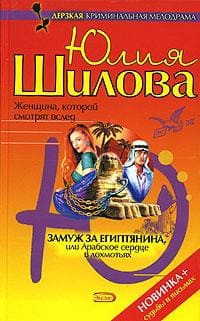
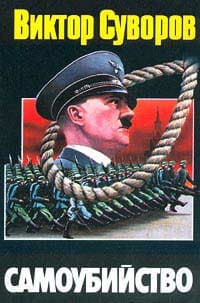 Суворов Виктор
Суворов Виктор Контровский Владимир
Контровский Владимир Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Буркатовский Сергей
Буркатовский Сергей Махров Алексей
Махров Алексей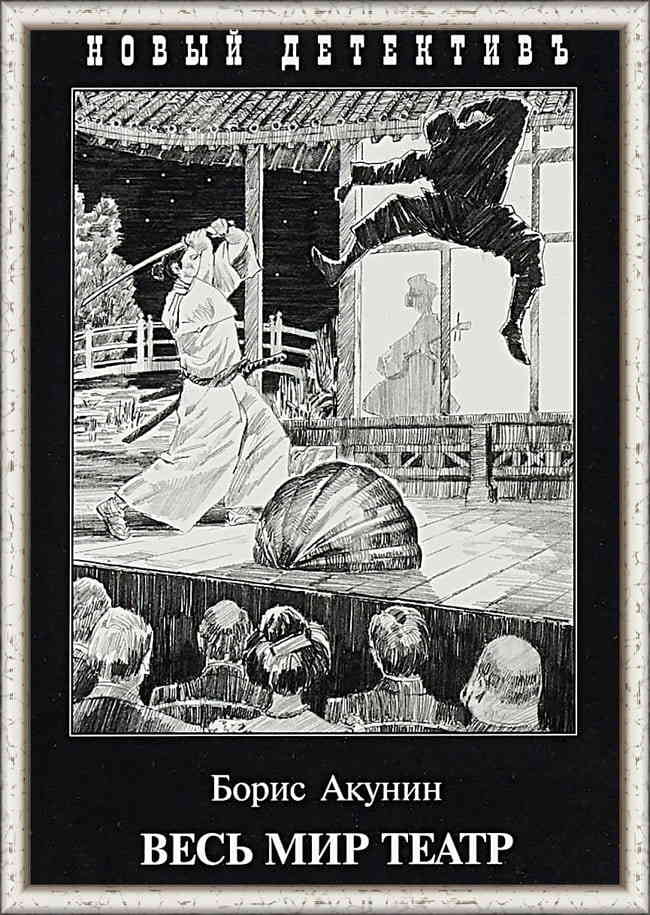 Акунин Борис
Акунин Борис