непонятным, зачем тот принимает у себя подобного злодея. Но Томас
Будденброк без каких бы то ни было признаков беспокойства удобно сидел в
своем кресле и беседовал с этим демоническим старцем, как с безобиднейшим
бюргером. Шеф фирмы "Иоганн Будденброк" и маклер Зигизмунд Гош обсуждали,
какую цену можно спросить за старый дом на Менгштрассе.
- двадцать восемь тысяч талеров, сенатор счел слишком низкой, тогда как
маклер, призывая в свидетели всю преисподнюю, клялся, что накинуть еще
хоть грош сверх этой суммы может только отъявленный безумец. Томас
Будденброк ссылался на центральное положение и из ряда вон выходящую
обширность участка, но маклер Гош, шипя и кусая губы, сдавленным голосом,
сопровождая свои слова устрашающими жестами, произнес рацею о потрясающем
риске, на который он идет, - рацею, столь красочную и убедительную, что ее
можно было бы назвать поэмой. Когда? Кому? За какую цену сумеет он сбыть
этот дом? Часто ли на протяжении веков находятся покупатели на столь
огромный участок? Или, может быть, его досточтимому собеседнику стало
известно, что завтра бюхенским поездом в город прибудет индийский набоб, с
тем чтобы поселиться в будденброковском доме? Он, Зигизмунд Гош, прогорит
с этим домом, обязательно прогорит, и тогда он - конченый человек; у него
уже недостанет времени подняться, ибо скоро, скоро пробьет его час, уже
могильщики вооружились заступами, чтобы рыть ему могилу... да, могилу. И
так как последний оборот пришелся ему по вкусу, то он еще добавил что-то о
злобствующих лемурах (*72) и комьях земли, с глухим стуком ударяющихся о
крышку гроба. Но сенатор не сдавался. Он выдвинул соображение о том, что
участок весьма удобен для раздела между несколькими покупателями,
подчеркнул ответственность, которую берет на себя перед сестрой и братом,
и упорно стоял на цене в тридцать тысяч талеров. Поэтому ему пришлось еще
раз со смешанным чувством досады и удовольствия выслушать искуснейшее
возражение г-на Гоша. Собеседование продолжалось добрых два часа, вовремя
которых маклер Гош сумел всесторонне показать свое актерское мастерство.
Он играл сложнейшую роль лицемерного злодея.
четыре тысячи марок... Их предлагает вам старый, честный человек! -
говорил он сладким голосом, склонив голову на плечо и стараясь вызвать
простодушную улыбку на своей демонической физиономии. При этом он
протягивал к собеседнику большие белые руки с длинными дрожащими пальцами.
Но все это было ложью и предательством. Ребенок мог бы догадаться, что под
этой лицемерной маской с отвратительной усмешкой скалит зубы прожженный
негодяй.
поразмыслить и посоветоваться с родными, прежде чем согласиться на
двадцать восемь тысяч талеров, хотя вряд ли он когда-нибудь даст на это
согласие. А пока что он заговорил о другом; осведомился о том, как вообще
идут дела маклера Гоша, поинтересовался его здоровьем.
он отвел даже самое предположение о его благополучном житье-бытье.
Близится старость... нет, не близится, она уже настала, и могильщики
взялись за свои заступы! По вечерам он с трудом подносит к губам стакан
грога, так чертовски у него трясется рука. Проклятьями тут не поможешь -
воля уже не торжествует над природой... И все же!.. Жизнь позади, но не
такая уж бедная впечатлениями жизнь! Открытыми глазами всегда взирал он на
мир. Революции и войны пронеслись в мире, их волны, образно выражаясь,
бились и о его сердце... Да, черт возьми! Совсем иные были времена, когда
в день исторического заседания городской думы он бок о бок с отцом
сенатора, с консулом Иоганном Будденброком, смирил натиск разъяренной
черни! Да, "всех ужаснее чудовищ в своем безумстве человек"! Нет, не бедна
была его жизнь, и внутренне не бедна. Черт возьми, он чувствовал в себе
силу. А "какова сила, таков и идеал", как говорит Фейербах. И теперь еще,
даже теперь, душа его не оскудела, сердце осталось юным. Ему и сейчас, как
прежде, доступны великие страсти. Так же бережно хранит он свои идеалы,
никогда не поступается ими... Вместе с ними он сойдет в могилу - иначе и
быть не может. Но разве идеалы существуют затем, чтобы люди достигали,
осуществляли их? Отнюдь нет! "Небесных звезд желать нельзя"...
моей жизни. "L'esperance, toute trompeuse qu'elle est, sert, au moins a
nous mener a la fin de la vie par un chemin agreable" [надежда, как она ни
обманчива, по крайней мере ведет нас приятным путем к концу жизни (фр.)].
Это сказал Ларошфуко (*73). Прекрасно! Не правда ли?
не знать. Тому, кого высоко взнесли волны жизни, тому, чье чело овеяно
дыханьем счастья, не надо помнить об этом. Но человек, оставшийся в
низинах жизни и всегда грезивший во мгле, нуждается в этих словах.
сенатора и глядя на него затуманенным взором. - Да! Да! Не отрицайте
этого, не берите греха на душу! Вы счастливец! Вы держите счастье в руках!
Вы ратоборствовали с жизнью и отвоевали себе счастье, отвоевали твердой
рукой... твердой десницей! - поправился он: ему претило близкое соседство
"в руках" и "рукой". Он умолк и, не слушая реплики сенатора, отклонявшего
от себя наименование "счастливца", продолжал мрачно и мечтательно смотреть
ему прямо в лицо. Потом вдруг выпрямился в кресле. - Мы с вами
заболтались, а встреча у нас деловая. Время дорого - не будем терять его
на размышления! Слушайте, что я вам скажу... Только для вас... Вы
понимаете меня? Для вас, ибо... - Казалось, маклер Гош вот-вот снова
пустится в прекраснодушные рассуждения, но он порывисто поднялся и, сделав
округлый, широкий, страстный жест, громко воскликнул: - Двадцать девять
тысяч талеров! Восемьдесят семь тысяч марок за дом вашей матери! По
рукам?..
смешного низкой. Если бы кто-нибудь - из уважения к воспоминаниям,
связывающим ее с этим домом, - отсчитал бы ей за него миллион чистоганом,
она признала бы это поступком порядочного человека, не более. Впрочем, она
быстро примирилась с цифрой, которую ей назвал брат, так как уже целиком
была погружена в планы будущего.
и, хотя никто еще не собирался выгонять ее из родительского дома, ретиво
занялась подысканием квартиры для себя, дочери и внучки. Прощанье будет
трудным, конечно! Одна мысль об этом нагоняла ей слезы на глаза. Но, с
другой стороны, в перспективе обновления и перемены тоже была своя
прелесть... Разве это не похоже на новое, в четвертый раз предпринимаемое
устройство жизни? Опять она осматривала квартиры, опять договаривалась с
обойщиком Якобсом, опять бегала по лавкам в поисках портьер и ковровых
дорожек... Сердце ее билось. Радостью билось сердце этой старой,
закаленной жизнью женщины!
зима, дрова уже трещали в печках, и Будденброки с грустью думали о том,
как пройдет на сей раз рождество... Но тут вдруг произошло событие...
событие весьма драматическое и, уж во всяком случае, в высшей степени
неожиданное. Ход вещей принял оборот, достойный всеобщего внимания и
действительно его снискавший. Случилось... стряслось такое, что г-жа
Перманедер в разгаре хлопот и суеты вдруг оцепенела и обмерла!
бредит? Не может быть! Это слишком нелепо, невероятно, слишком... -
продолжать она не могла и только изо всей силы сдавливала руками виски.
возможность, действительно мелькнула. И если ты спокойно пораздумаешь, то
сама придешь к выводу, что ничего такого немыслимого в этом нет. Немножко
неожиданно, не спорю! Я тоже едва устоял на ногах, когда маклер Гош
сообщил мне это. Но... немыслимо?.. Какие тут, собственно, могут быть
препятствия?..
неподвижности.
лицо, выказавшее интерес к этому делу и пожелавшее, прежде чем приступить
к переговорам, осмотреть предназначенное к продаже владение. И лицо это
был... Герман Хагенштрем, оптовый торговец и консул Португальского
королевства.
ошарашена, поражена и потрясена, что даже не сразу поняла ее. Но по мере
того как разговор принимал все более и более реальные очертания и визит
консула Хагенштрема на Менгштрассе грозил со дня на день состояться, она
собралась с духом, жизнь вновь вернулась к ней. Г-жа Перманедер
протестовала, возмущалась; у нее нашлись слова пламенные и разящие, она
размахивала ими, словно горящими факелами, оборонялась, как мечом.
продаешь, и то стараешься узнать, кому она достанется. А тут - мамин дом!
Наш дом! Ландшафтная!..
Горы должны были бы встать ему поперек дороги, этому проклятому толстяку!
Горы, Томас! Но он их не замечает! Знать о них не хочет! Ни одно чувство в
нем не шевелится, в этой скотине!.. Хагенштремы наши враги спокон веков...
Старый Хинрих только и знал, что подсиживать дедушку и отца, и если Герман
еще не устроил тебе никакой пакости, еще не подставил тебе подножки, так
только потому, что не было удобного случая... Когда мы были детьми, я
среди бела дня влепила ему оплеуху - у меня были на то свои причины, а его
сестричка Юльхен исцарапала меня за это так, что хоть на улицу не


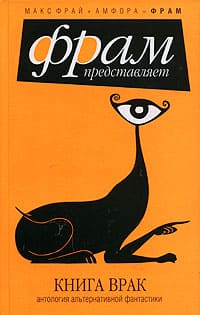



 Корнев Павел
Корнев Павел Никитин Юрий
Никитин Юрий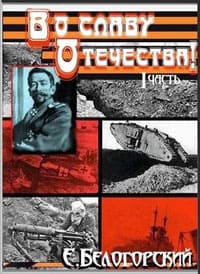 Белогорский Евгений
Белогорский Евгений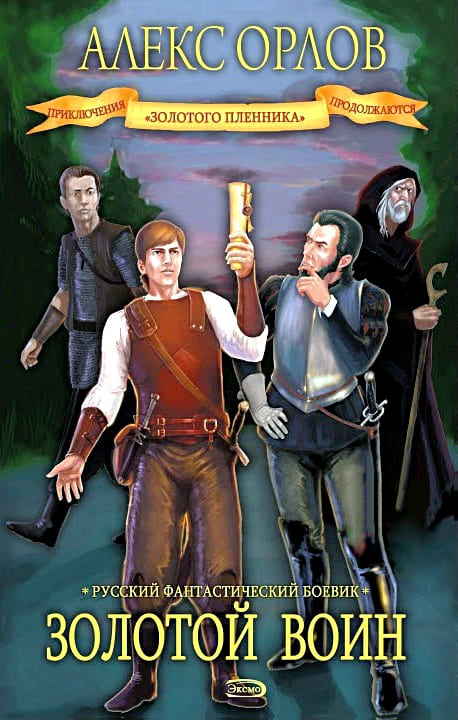 Орлов Алекс
Орлов Алекс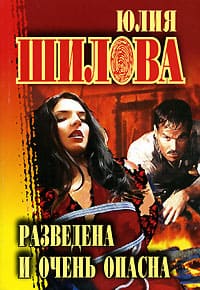 Шилова Юлия
Шилова Юлия Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий