дома. Теплый воздух, напоенный сладкими запахами, мирные шорохи вокруг,
казалось, хотели умягчить, убаюкать его. Усталый от созерцания пустоты,
измученный одиночеством и молчанием, он временами закрывал глаза, чтобы
тут же вновь широко раскрыть их, гоня от себя умиротворение. "Я должен
думать, - почти вслух произносил он, - должен все упорядочить, пока не
поздно..."
однажды четыре часа кряду, с всевозрастающим интересом читая книгу,
попавшуюся ему в руки, трудно даже сказать, в результате сознательных
поисков или случайно... Как-то раз, в курительной комнате, после завтрака,
с папироской в зубах, он обнаружил эту книгу в дальнем углу шкафа,
засунутой за другие книги, и тут же вспомнил, что уже давно приобрел ее по
сходной цене у букиниста... приобрел и забыл о ней; это был объемистый
том, плохо отпечатанный на тонкой желтоватой бумаге и плохо
сброшюрованный, - вторая часть прославленной метафизической системы (*75).
Он взял книгу с собою в сад и теперь, как зачарованный, перевертывал
страницу за страницей.
испытывал ни с чем не сравнимое удовлетворение, узнавая, как этот мощный
ум покорил себе жизнь, властную, злую, насмешливую жизнь, - покорил, чтобы
осудить. Это было удовлетворение страдальца, до сих пор стыдливо, как
человек с нечистой совестью, скрывавшего свои страдания перед лицом
холодной жестокости жизни, страдальца, который из рук великого мудреца
внезапно получил торжественно обоснованное право страдать в этом мире - в
лучшем из миров, или, вернее, худшем, как неоспоримо и ядовито
доказывалось в этой книге.
Его ум, непривычный к такого рода чтению, временами не мог следовать за
всеми ходами мысли. Но как раз от этой смены света и тени, тупого
непонимания, смутных чаяний и внезапных прозрений у него и захватывало
дыхание. Часы летели, а он не отрывал глаз от книги, продолжая сидеть все
в том же положении, в котором раскрыл ее.
алча добраться до главного, до самого важного, задерживаясь только на том,
что сразу приковывало его внимание. Но вскоре ему попалась целая глава,
которую он, плотно сжав губы и насупив брови, прочитал от первого до
последнего слова, не замечая ни единого проявления жизни вокруг, с
выражением почти мертвенной суровости на лице - ибо эта глава называлась
"О смерти и ее отношении к нерушимости нашего существа в себе" (*76).
звать его к столу. Томас Будденброк кивнул, дочитал до конца, закрыл книгу
и осмотрелся вокруг. Он почувствовал, что душа его необъятно расширилась,
поддалась тяжелому, смутному опьянению, мозг затуманился. Его почти шатало
от того непостижимо нового, влекущего, искусительного, что нахлынуло на
него, словно первая, манящая вдаль любовная тоска. Но когда он холодными,
дрожащими руками стал класть книгу в ящик садового столика, его пылающий
мозг, не способный ни на одну четкую мысль, был так придавлен чем-то, так
страшно напряжен, словно вот-вот что-то должно было лопнуть в нем.
садясь за стол. - Что со мной произошло? Что мне открылось? Что было
возвещено мне, Томасу Будденброку, сенатору этого города, шефу
хлеботорговой фирмы "Иоганн Будденброк"?.. Ко мне ли это относилось? И
смогу ли я это вынести? Я не знаю, что это было... Знаю только", что для
моих бюргерских мозгов это чрезмерно много".
он пребывал весь день. Но наступил вечер, голова его стала бессильно
клониться; он рано ушел спать и проспал три часа небывало глубоким сном.
Проснулся он так внезапно, в таком блаженном испуге, как просыпается
человек с зарождающейся любовью в сердце.
Иды Юнгман, которая перебралась поближе к маленькому Иоганну.
Беспросветная тьма царила вокруг, занавеси на обоих высоких окнах были
плотно сдвинуты. Среди полной тишины, в теплой духоте летней ночи, он
лежал на спине и вглядывался во мрак.
раздвинулась бархатная завеса, открывая его взгляду необозримую, уходящую
в бесконечную глубину вечную светлую даль. "_Я буду жить_! - почти вслух
проговорил Томас Будденброк и почувствовал, как грудь его сотрясается от
внутреннего рыдания. - Это и значит, что я буду жить! _Это_ будет жить, а
то, неведомое, - _это_ не я, морок, заблуждение, которое рассеет смерть.
Да, так, так оно и есть!.. Почему?" И при этом вопросе ночь снова
сомкнулась перед ним. Опять он ничего не видел, не знал, не понимал даже
самого простого. Он крепче прижался головой к подушке, ослепленный,
изнемогающий от той крупицы истины, которую ему только что дано было
постичь.
том, чтобы вновь повторилось то, что с ним было, чтобы оно еще раз пришло
и просветило его. И оно повторилось. Молитвенно сложив руки, боясь даже
пошевелиться, он лежал, радуясь дарованному ему свету.
значительных словах: он его чувствовал, этот ответ, внутренне обладал им.
Смерть - счастье, такое глубокое, что даже измерить его возможно лишь в
минуты, осененные, как сейчас, благодатью. Она - возвращение после
несказанно мучительного пути, исправление тягчайшей ошибки, освобождение
от мерзостных уз и оков. Придет она - и всего рокового стечения
обстоятельств как не бывало.
_Что_ кончится и _что_ подвергнется распаду? Вот это его тело... Его
личность, его индивидуальность, это тяжеловесное, трудно подвижное,
ошибочное и ненавистное _препятствие к тому, чтобы стать чем-то другим,
лучшим_!
родившись, он не попадает в узилище? Тюрьма! Тюрьма! Везде оковы, стены!
Сквозь зарешеченные окна своей индивидуальности человек безнадежно смотрит
на крепостные валы внешних обстоятельств, покуда смерть не призовет его к
возвращению на родину, к свободе...
кажется нам жалким, серым, недостаточным и скучным; а на то, что не мы, на
то, чего мы не можем, чего не имеем, мы глядим с тоскливой завистью,
которая становится любовью, - хотя бы уже из боязни стать ненавистью.
призваний... Не будь я здесь, где бы я мог быть? В качестве кого и чего я
существовал бы, если б не был собой, если б вот эта моя личность не
отделяла меня и мое сознание от личностей и сознаний всех тех, кто не я!
Организм! Слепая, неосмысленная, жалкая вспышка борющейся воли! Право же,
лучше было бы этой воле свободно парить в ночи, не ограниченной
пространством и временем, чем томиться в узилище, скудно освещенном
мерцающим, дрожащим огоньком интеллекта!
слабой, неустойчивой? Ребячество, глупость и сумасбродство! Что мне сын?
Не нужно мне никакого сына!.. Где я буду, когда умру? Но ведь это ясно как
день, поразительно просто! Я буду во всех, кто когда-либо говорил, говорит
или будет говорить "я"; _и прежде всего в тех, кто скажет это "я" сильнее,
радостнее_...
для жизни, способный развить свои задатки, статный, не знающий печали,
чистый, жестокий, жизнерадостный, - один из тех, чья личность делает
счастливых еще счастливее, а несчастных повергает в отчаяние, - вот это
мой сын! _Это я_ в скором, в скором времени - как только смерть освободит
меня от жалкого, безумного заблуждения, будто я не столько он, сколько
я...
недоразумение! Я ненавидел только себя - за то, что не умел побороть ее.
Но я люблю вас, счастливые, всех вас люблю, и скоро тюремные тесные стены
уже не будут отделять меня от вас; скоро то во мне, что вас любит, - моя
любовь к вам, - станет свободным, я буду с вами, буду в вас... с вами и в
вас, во всех!..
счастья вознесшийся ввысь, - счастья, такого болезненно-сладостного, с
которым ничто на свете не могло сравниться. Это и было все то, что со
вчерашнего дня пьянило его смутным волнением, что ночью шевельнулось у
него в сердце и разбудило его, как зарождающаяся любовь. И теперь, когда
ему было даровано все это прозреть и познать - не в словах, не в
последовательных мыслях, но во внезапных, благодатных озарениях души, - он
уже был свободен, был спасен; узы разорвались, оковы спали с него. Стены
его родного города, в которых он замкнулся сознательно и добровольно,
раздвинулись, открывая его взору мир - весь мир, клочки которого он видел
в молодости и который смерть сулила подарить ему целиком. Обманные формы
познания пространства, времени, а следовательно, и истории, забота о
достойном исторически преемственном существовании в потомках, страх перед
окончательным историческим распадом и разложением - все это отпустило его,
не мешало больше постижению вечности. Ничто не начиналось и ничто не имело
конца. Существовало только бескрайное настоящее и та сила в нем, Томасе
Будденброке, которая любила жизнь болезненно-сладостной, настойчивой,
страстной любовью; и хотя личность его была всего-навсего искаженным
выражением этой любви, ей все же дано было теперь найти доступ к
бескрайному настоящему.
мгновение уже не знал, о чем. Его мозг застыл, знание потухло, вокруг
опять не было ничего, кроме тишины и мрака. "Оно вернется! - уверял он


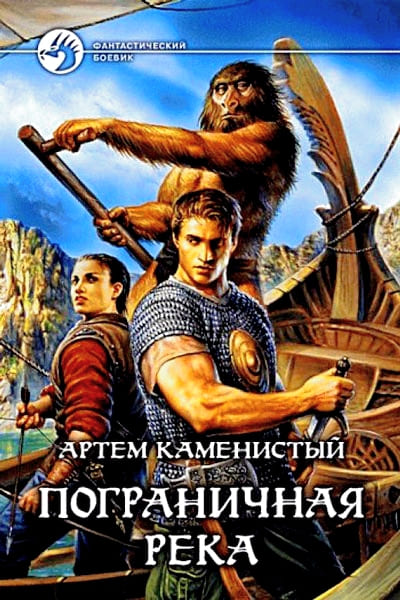
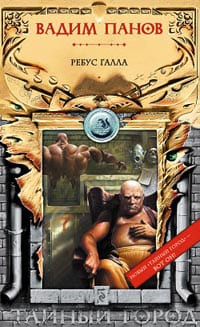


 Флинт Эрик
Флинт Эрик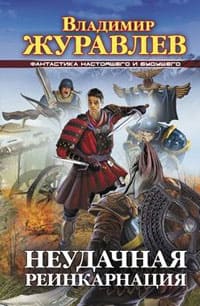 Журавлев Владимир
Журавлев Владимир Орловский Гай Юлий
Орловский Гай Юлий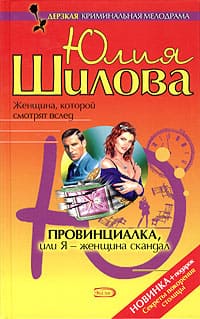 Шилова Юлия
Шилова Юлия Шилова Юлия
Шилова Юлия Афанасьев Роман
Афанасьев Роман