посмотрим! Но горе тому, кто..."
ему свое преподавательское искусство, наглядно показать, какие успехи
сделал пятый класс за шесть или семь уроков: сейчас решался вопрос о
существовании г-на Модерзона, о его будущем. Жалкое зрелище являл собою
кандидат, когда, поднявшись на кафедру, он снова предложил одному из
юношей прочитать стихотворение "The monkey". Если до сих пор испытанию и
проверке подвергались ученики, то теперь это предстояло учителю. Плохо
приходилось уже обеим сторонам! Появление директора Вулике было полной
неожиданностью. За исключением двух или трех мальчиков никто стихотворения
не выучил. Не мог же г-н Модерзон весь урок спрашивать одного только
Адольфа Тотенхаупта, который все знал. А так как в присутствии директора
нельзя было читать "The monkey" по книге, то дело оборачивалось из рук вон
плохо. Когда г-н Модерзон предложил перейти к чтению "Айвенго", то с
переводом кое-как справился один юный граф Мельн, независимо от школьных
занятий питавший интерес к этому роману. Остальные, кашляя и запинаясь,
лопотали что-то невразумительное. Вызвали и Ганно Будденброка, но он не
перевел ни строчки. Директор Вулике издал неопределенный звук, словно
кто-то-сильно дернул струну контрабаса. Г-н Модерзон ломал свои маленькие,
неловкие руки, вымазанные чернилами, горестно причитая:
когда раздался звонок, Господь Бог поднялся и, стоя возле кресла, грозно
выпрямившись и скрестив руки, стал смотреть поверх мальчиков, презрительно
качая головой. Затем он потребовал классный журнал и вписал в него
замечание за леность всем, чьи успехи оказались недостаточными или, еще
того хуже, равными нулю, - иными словами, шести или семи ученикам зараз.
Г-ну Модерзону нельзя было вписать замечание, но ему приходилось хуже, чем
другим. Он стоял рядом с директором поникший, надломленный, уничтоженный.
прощанье директор Вулике и вышел из класса.
Когда очень боишься, то все, словно на смех, складывается уж не так плохо,
а когда ничего дурного не ждешь - беда тут как тут. Надежда перейти в
следующий класс теперь для Ганно окончательно отпадала. Он потрогал языком
коренной зуб, поднялся и, устало глядя перед собой, пошел к двери.
оживленно обсуждавших случившееся, они спустились во двор.
тоже получить замечание! Это такая подлость с моей стороны!..
arbora, glandes"? - спросил Ганно. - Так уж все вышло, Кай. Ничего не
поделаешь!
тебе карьеру? Что ж, надо покориться, Ганно, раз такова его неисповедимая
воля... Карьера - вот это словцо! Карьере господина Модерзона тоже конец!
Никогда ему не быть старшим учителем, бедняге! Да, выходит, что есть
старшие и младшие учителя, а просто учителей нет! Нам с тобой это трудно
понять, - это для взрослых, для тех, кто уже знает жизнь. По-моему, можно
сказать: вот это учитель, а это не учитель, но что значит "старший
учитель" - я, ей-богу, не понимаю. Вот если бы высказать это Господу Богу
или господину Мароцке. Что бы тут поднялось! Они сочли бы это оскорблением
и стерли бы нас в порошок за дерзость, а ведь мы бы только высказали более
высокое мнение об их профессии, чем то, которое они себе составили... Ну,
да что о них говорить, об этих идиотах!
болтал Кай, стараясь заставить его забыть о полученном замечании.
немножко пройтись по тротуару? Еще осталось шесть минут до конца
перемены... мы могли бы вовремя вернуться. Все так, а вот выйти-то нам и
нельзя. Понимаешь ты это? Калитка открыта, решеток нет, вообще нет никаких
препятствий. И все-таки выйти нам нельзя, нельзя даже подумать об этом, на
секунду нельзя нос высунуть!.. Ну да ладно! Возьмем другой пример. Разве
мы смеем сказать, что сейчас будет половина двенадцатого? Нет, сейчас
будет урок географии. Так-то обстоят дела! А теперь я спрашиваю: разве это
жизнь? Все шиворот-навыворот! Ах, господи, если бы нам уж выбраться из
нежных объятий этого заведения.
Здесь мы хоть к чему-то пристроены. С тех пор как умер мой отец, господин
Кистенмакер и пастор Прингсгейм каждый день пристают ко мне: кем ты хочешь
быть? А я сам не знаю и ничего не могу им ответить. Я никем не могу быть.
Я всего боюсь...
разъезжать и давать концерты? Во-первых, они мне этого не позволят, а
во-вторых, я и не сумею. На что я способен? Разве что поимпровизировать
немного на рояле, когда я остаюсь один. А кроме того, разъезды тоже пугают
меня. Ты - дело другое. У тебя больше мужества. Ты вот расхаживаешь здесь
и над всеми смеешься, у тебя есть что им противопоставить. Ты будешь
писать, рассказывать людям прекрасные, удивительные истории - это уже
нечто. И, конечно, ты станешь знаменитостью, ты очень способный! В чем тут
дело? Ты веселее меня. Иногда за уроками мы посмотрим друг на друга - ну,
как сегодня, когда господин Мантельзак почему-то поставил дурную отметку
одному Петерсену, - думаем мы одно и то же, но ты состроишь гримасу - и
все... А я так не умею. Я от всего этого устаю. Мне хочется спать и ни о
чем больше не думать. Мне хочется умереть, Кай!.. Нет, нет, ничего из меня
не выйдет. Я ничего не хочу. Даже не хочу прославиться... Меня это
страшит, словно в этом тоже есть какая-то несправедливость. Будь уверен,
что ничего толкового из меня не выйдет. Пастор Прингсгейм, он готовит меня
к конфирмации, недавно сказал кому-то, что на мне надо поставить крест, я
из вырождающейся семьи...
лечебнице для слабоумных. И он, конечно, прав. Пусть на мне ставят крест,
я буду только благодарен! У меня столько огорчений, мне все так тяжело
дается. Вот подумай, если я порежу себе палец, чем-нибудь оцарапаюсь... у
другого все прошло бы за неделю, а у меня длится месяц - не заживает,
воспаляется, с каждым днем становится хуже, мучает меня. На днях господин
Брехт сказал, что зубы мои никуда не годятся, все подточены, испорчены; а
сколько их мне уж вырвали! И это теперь. А чем я буду есть в тридцать, в
сорок лет? Нет, я ни на что не надеюсь...
лучше о твоей музыке. Я собираюсь написать одну удивительную штуку...
правда, удивительную... Возможно, что я уже сейчас начну, на уроке
рисования. Ты будешь сегодня импровизировать после обеда?
смятенное.
было бы повторить кое-какие этюды, сонаты и только. Но я буду
импровизировать! Я не могу без этого, пусть потом мне становится еще хуже.
покраснел до корней волос и потупился, хотя головы не опустил. Ганно,
бледный, страшно серьезный, глядел куда-то в сторону затуманенными
глазами.
классная работа о Гессен-Нассауской области. В класс вошел рыжебородый
мужчина в коричневом сюртуке. Лицо у него было бледное, руки с
необыкновенно пористой кожей поражали полным отсутствием растительности.
Это был "остроумнейший" доктор Мюзам. У него временами случались легочные
кровотечения, и он всегда и обо всем говорил иронически, считая себя очень
умным и очень больным. Дома у него было устроено нечто вроде музея Гейне -
собрание бумаг и предметов, принадлежавших дерзкому и больному поэту. Но
сейчас, вычертив на классной доске границы Гессен-Нассау, он с
меланхолической и насмешливой улыбкой попросил господ учеников написать о
достопримечательностях этой области. В его словах заключалась двойная
насмешка - над школьниками и над Гессен-Нассауской областью. Тем не менее
это была важная классная работа, к которой все относились с опаской.
знал. Он собрался было заглянуть в тетрадь Адольфа Тотенхаупта, но "Генрих
Гейне", которому его ядовитая и страдальческая ирония не мешала зорко
следить за каждым движением учеников, тотчас это приметил и сказал:
закрыть тетрадь, но боюсь тем самым оказать вам сугубое благодеяние.
Продолжайте!
Мюзам назвал Ганно "господином Будденброком", а во-вторых, упомянул о
"благодеянии". Ганно Будденброк долго корпел над своей тетрадью, подал в
конце концов учителю почти не исписанный листок и вместе с Каем вышел из
класса.
не обременена полученным замечанием. Эти счастливцы могли теперь с легким
сердцем усесться в светлом зале и заняться рисованием у г-на Драгемюллера.



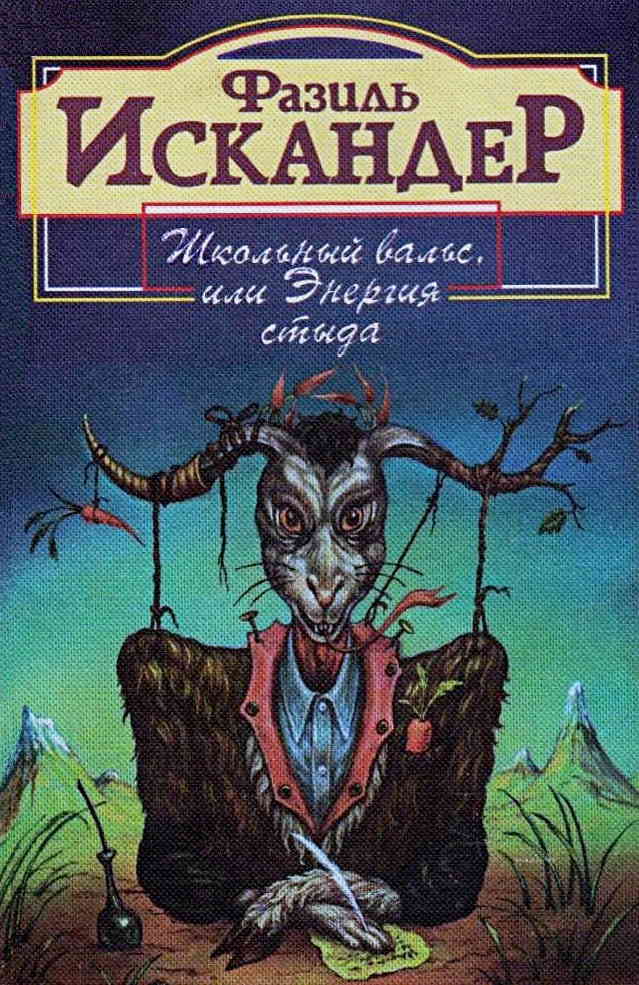
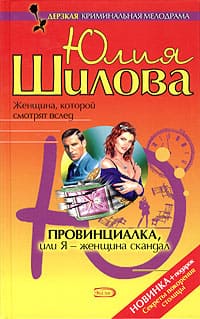

 Орловский Гай Юлий
Орловский Гай Юлий Никитин Юрий
Никитин Юрий Контровский Владимир
Контровский Владимир Шилова Юлия
Шилова Юлия Василенко Иван
Василенко Иван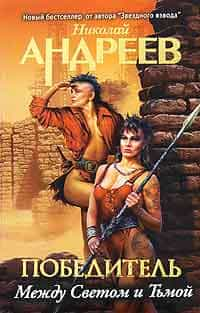 Андреев Николай
Андреев Николай