мрачное замкнутое выражение; склонившись над тарелкой, он помешивал ложкой
суп и только время от времени поглядывал своими маленькими круглыми,
глубоко посаженными глазами на верхний конец стола. - Его словно пригибала
к земле какая-то тяжесть. И, по-моему, в этом нет ничего удивительного.
Что заставило его связаться с этим Геельмаком, у которого и капитала-то
почти не было, а была только дурная слава? Видимо, он ощущал потребность
свалить на кого-нибудь хоть часть своей огромной ответственности, ибо
знал, что неудержимо катится в пропасть. Эта фирма окончила свое
существование, старый род пришел в упадок. Вильгельм Геельмак явился
только последним толчком к гибели...
Вундерлих, наполняя красным вином бокал своей дамы и свой собственный, -
что все происшедшее совершилось бы и без этого Геельмака и его диких
поступков?
обращаясь, - но мне думается, что встреча Дитриха Ратенкампа с Геельмаком
была необходима и неизбежна, дабы могло свершиться предначертание рока...
Он, видимо, действовал под неумолимым гнетом необходимости... Я уверен,
что он в какой-то мере раскусил своего компаньона и не был в таком уж
полном неведении относительно того, что творилось на складах. Но он словно
окаменел...
ложку. - Это одна из твоих idees [здесь: навязчивая идея (фр.)].
заговорил Лебрехт Крегер:
белого вина с пробкой, украшенной маленьким серебряным оленем, слегка
отодвинул ее от себя и принялся внимательно рассматривать этикетку.
что бы мы были без вас!
мадам Антуанетта зорко наблюдала за их движениями, а мамзель Юнгман
отдавала приказания в переговорную трубу, соединявшую столовую с кухней.
Когда принесли рыбу, пастор Вундерлих, усердно накладывая себе на тарелку,
сказал:
сейчас сорадуется с нами, старыми людьми, и не представляет себе, что
когда-то все шло по-другому. Я вправе сказать, что моя личная судьба
нередко сплеталась с судьбами наших милых Будденброков... Всякий раз, как
я смотрю на такую вот вещь, - он взял со стола одну из тяжеловесных
серебряных ложек и обернулся к мадам Антуанетте, - я невольно спрашиваю
себя, не ее ли в тысяча восемьсот шестом году держал в руках наш друг,
философ Ленуар, сержант его величества императора Наполеона, и вспоминаю,
мадам, нашу встречу на Альфштрассе...
застенчивой и мечтательно обращенной в прошлое. Том и Тони на нижнем конце
стола, которые терпеть не могли рыбу и внимательно прислушивались к
разговору взрослых, почти одновременно закричали:
случае, для нее несколько конфузном, уже сам начал рассказ об одном давнем
происшествии, который дети никогда не уставали слушать и который
кому-нибудь из гостей, может быть, был и в новинку.
как из ведра; я ходил по делам своего прихода и вот возвращаюсь по
Альфштрассе, раздумывая о наступивших трудных временах. Князь Блюхер бежал
(*3), город наш занят французами, но волнение, всех обуявшее, почти не
чувствуется. Улицы тихи, люди предпочитают отсиживаться по домам. Мясник
Праль, который, по обыкновению, засунув руки в карманы, вышел постоять у
дверей своей лавки и вдруг громовым голосом воскликнул: "Да что же это
делается? Бог знает, что за безобразие!" - получил пулю в голову, и
конец... Так вот иду я и думаю: надо бы заглянуть к Будденброкам; мое
появление может оказаться весьма кстати: муж лежит больной - рожа на
голове, а у мадам с постоями хлопот не обобраться.
Наша достоуважаемая мадам Будденброк! Но в каком виде! Дождь, а она идет -
вернее, бежит - без шляпы, шаль едва держится на плечах, а куафюра у нее
так растрепана... - увы, это правда, мадам! - что вряд ли здесь даже было
применимо слово "куафюра".
за рукав мадам, которая меня даже не замечает, и мое сердце сжимается
недобрым предчувствием. - Куда вы так спешите, любезнейшая?" Тут она меня
узнает и кричит: "Ах, это вы... Прощайте! Все кончено! Я сейчас брошусь в
Траву". - "Боже вас упаси! - говорю я и чувствую, что кровь отливает у
меня от лица. - Это место совсем для вас неподходящее. Но что случилось?"
И я держу ее так крепко, как это допускает мое почтительное отношение к
мадам Будденброк. "Что случилось? - повторяет она, дрожа всем телом. - Они
залезли в мое серебро, Вундерлих! Вот что случилось! А у Жана рожа на
голове, и он не в состоянии встать с постели. Да, впрочем, будь он на
ногах, он тоже ничем не мог бы помочь мне. Они воруют мои ложки, мои
серебряные ложки! Вот что случилось, Вундерлих! И я сейчас утоплюсь в
Траве".
говорят в таких случаях. Говорю: "Мужайтесь, дитя мое! Все обойдется!" И
еще: "Мы попробуем поговорить с этими людьми. Возьмите себя в руки,
заклинаю вас! Идемте скорее!" И я веду ее домой. В столовой мы застаем ту
же картину, от которой бежала мадам: солдаты - человек двадцать - роются в
ларе с серебром. "С кем из вас, милостивые государи, мне позволено будет
вступить в переговоры?" - учтиво обращаюсь я к ним. В ответ раздается
хохот: "Да со всеми, папаша!" Но тут один выходит вперед и представляется
мне - длинный, как жердь, с нафабренными усами и красными ручищами,
которые торчат из обшитых галунами обшлагов мундира. "Ленуар, - говорит он
и отдает честь левой рукой, так как в правой держит связку из полдюжины
ложек, - Ленуар, сержант. Чем могу служить?" - "Господин офицер! - говорю
я, взывая к его point d'honneur [чувству чести (фр.)]. - Неужели подобное
занятие совместимо с вашим блистательным званием? Город не сопротивлялся
императору". - "Что вы хотите, - отвечает он, - война есть война! Моим
людям пришлась по душе эта утварь..." - "Вам следует принять во внимание,
- перебил я его, так как меня вдруг осенила эта мысль, - что дама, -
говорю я, ибо чего не скажешь в таком положении, - не немка, а скорее ваша
соотечественница, француженка..." - "Француженка?" - переспрашивает он. И
что, по-вашему, добавил к этому сей долговязый рубака? "Так, значит,
эмигрантка? - добавил он. - Но в таком случае она враг философии". Я чуть
не прыснул, но овладел собою. "Вы, как я вижу, человек ученый, - говорю я.
- Повторяю, заниматься таким делом вам не пристало". Он молчит, потом
внезапно заливается краской, швыряет ложки обратно в ларь и кричит: "С
чего вы взяли, что я не просто любуюсь ими? Хорошенькие вещички, ничего не
скажешь! И если кто-нибудь из моих людей возьмет штучку-другую себе на
память..."
помогли никакие призывы ни к божеской, ни к человеческой справедливости.
Они не ведали иного бога, кроме этого ужасного маленького человека...
5
копченый окорок, горячий, запеченный в сухарях, а к нему кисловатая
тушеная капуста и такая пропасть других овощей, что, кажется, все сидящие
за столом могли бы насытиться ими. Резать ветчину вызвался Лебрехт Крегер.
Изящно приподняв локти и сильно нажимая вытянутыми пальцами на нож и
вилку, он бережно отделял сочные куски от окорока. В это время внесли еще
и "русский горшок", гордость консульши Будденброк, - острую и слегка
отдающую спиртом смесь из различных фруктов.
Но зато старый Будденброк и Жан-Жак Гофштеде видели его своими глазами:
первый - в Париже, как раз перед русской кампанией, на параде, устроенном
перед дворцом Тюильри; второй - в Данциге...
поэт, высоко подняв брови и отправляя в рот кусок ветчины, брюссельскую
капусту и картофель, которые ему удалось одновременно насадить на вилку. -
Хотя все уверяли, что в Данциге он еще был в хорошем настроении...
Рассказывали даже такой анекдот. Весь день он расправлялся с немцами,
притом достаточно круто, а вечером сел играть в карты со своими
генералами. "N'est-ce pas, Rapp, - сказал он, захватив со стола полную
пригоршню золотых, - les Allemands aiment beaucoup ces petits Napoleons?"
- "Oui, sire, plus que le Grand!" ["Не правда ли, Рапп? (*4) Немцы очень
любят маленьких наполеонов?" (*5) - "Да, ваше величество, больше, чем
Великого!" (фр.)], - отвечал Рапп.
рассказал свой анекдот и даже легким намеком воспроизвел мимику
императора, - старый Будденброк вдруг заявил:
восхищения?.. Что за человек!..
перед человеком, который умертвил герцога Энгиенского (*6) и отдал приказ






 Шилова Юлия
Шилова Юлия Аникина Наталья
Аникина Наталья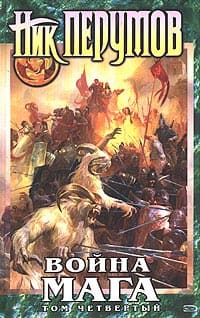 Перумов Ник
Перумов Ник Никитин Юрий
Никитин Юрий Орловский Гай Юлий
Орловский Гай Юлий Свержин Владимир
Свержин Владимир