жилете, другая, украшенная брильянтовым перстнем и лежавшая на коленях,
дрожала мелкой дрожью.
усталостью. - Мне скучно, вот и все! - Но тут же сам изобличил себя во
лжи, процедив сквозь зубы: - Parbleu, Жан! Этих грязных оборванцев
следовало бы с помощью пороха и свинца обучить почтительному обращению...
Мразь! Сброд!..
поделаешь? Приходится и виду не подавать. Уже стемнело. Они скоро
разойдутся...
из себя, крикнул Лебрехт Крегер; его ярость прорвалась наружу, он дрожал
всем телом. - Я приказал подать его к пяти часам! Где он?.. Заседание не
состоялось... Что мне здесь делать? Я не позволю себя дурачить!.. Мне
нужен экипаж!.. Они еще, чего доброго, напали на моего кучера? Подите
узнайте, в чем дело, Будденброк!
Конечно, я пойду и узнаю, что там с экипажем. Я и сам уже сыт всем этим по
горло. Я поговорю с ними, предложу им разойтись по домам...
холодно и уничижительно отдал приказ: "Стоп! Ни с места! Вы роняете свое
достоинство, Будденброк!.." - консул быстро направился к выходу. Когда он
открывал узенькую зеленую дверь, Зигизмунд Гош схватил его за плечи своей
костлявой рукой и громким страшным шепотом спросил:
выкрикнул: "Знайте, я готов говорить с народом!" - острый его подбородок,
выражая отчаянную решимость, подтянулся почти к самому носу, седые волосы
упали на виски и мрачный лоб, а голову он так втянул в плечи, что и впрямь
казался горбуном.
наверняка больше знакомых среди этих людей...
известный. - И уже громче продолжал: - Но я пойду с вами, я буду подле
вас, консул Будденброк! Пусть ярость восставших рабов обрушится и на
меня!.. Ах, какой день и какой вечер! - произнес маклер Гош уже за дверью;
можно с уверенностью сказать, что он никогда не чувствовал себя столь
счастливым. - О господин консул! Вот он, народ!
трех ступенек. Улица имела вид необычный: она словно вымерла, и только в
открытых и уже освещенных окнах теснились любопытные, вглядываясь в
темневшую перед домом городской думы толпу бунтовщиков. Толпа эта
численностью не намного превосходила собравшихся в зале и состояла из
молодых грузчиков, складских рабочих, рассыльных, учеников городского
училища, нескольких матросов с торговых судов и прочих обитателей
городского захолустья, всех этих "тупиков", "проездов", "проулков" и
"задворок". В толпу затесались и три или четыре женщины, видимо
надеявшиеся, вроде будденброковской кухарки, извлечь из всего
происходящего какие-то личные выгоды. Некоторые инсургенты, устав от
долгого стоянья, уселись прямо на панель, спустили ноги в водосточные
канавки и закусывали бутербродами.
подвешенные на протянутых через улицу цепях, не были зажжены. Такое явное
и неслыханное нарушение порядка сразу вывело из себя консула и заставило
его обратиться к толпе тоном раздраженным и резким:
на противоположном тротуаре поднялись на цыпочки. Несколько грузчиков,
служивших у консула, сняли шапки. Толпа насторожилась, затопталась на
месте, заговорила приглушенными голосами:
Заткнись, Кришан, этому если вожжа попадет под хвост, так уж держись! А
вот маклер Гош! Глянь-ка, глянь! Обезьяна, да и только! У него, верно, в
голове не все дома, а?
глубоко сидящими глазами на одного из складских рабочих, кривоногого парня
лет двадцати двух, который стоял возле самого крыльца с шапкой в руке и
жевал булку. - Ну, говори хоть ты, Корл Смолт! Пора уж! Вы тут
околачиваетесь с самого обеда...
уж что и говорить, дело такое... Знать, до точки дошло... Мы революцию
делаем...
довольны мы, как оно есть. Нам подавай другой порядок... Как оно есть -
никуда не годится...
домам, не суйтесь в революцию и не нарушайте порядка.
консул. - Смотрите, даже фонари не зажжены... Уж больно вы далеко зашли с
вашей революцией...
расставленных ногах, решил привести свои доводы.
был всеобщий принцип... избирательных прав...
какую ты несешь околесицу...
а только нам революция нужна, это уж как пить дать. Сейчас везде
революция, в Берлине, в Париже.
весело смеяться. И хотя большинство не расслышало слов Корла Смолта, но
веселость стала быстро распространяться, пока не охватила всю толпу
республиканцев. У окон зала появились любопытные с пивными кружками в
руках. И только Зигизмунд Гош был разочарован, более того - обижен таким
оборотом событий.
вам самое лучшее разойтись по домам.
впечатления, ответил:
как-нибудь утрясется, а вы уж за обиду не считайте... Счастливо
оставаться, господин консул!
на глаза крегеровский экипаж? Ну, знаешь, карета от Городских ворот?
Там и дожидается...
Крегеру пора ехать домой.
что кожаный козырек почти закрыл ему глаза, неровной торопливой походкой
пустился вниз по улице.
4
значительно веселее, чем четверть часа назад. На столе председателя горели
две большие парафиновые лампы, отбрасывая желтоватый свет на бюргеров,
которые - кто сидя, кто стоя - наливали пиво в блестящие кружки, чокались
и переговаривались громко и благодушно. Г-жа Зуэркрингель, вдова, за это
время наведалась к ним, выказала самое сердечное сочувствие к участи своих
отрезанных от мира гостей и со свойственным ей красноречием убедила их в
необходимости подкрепиться: кто знает, сколько еще времени продлится
осада. Так извлекла она пользу из смутных времен и сбыла значительную
часть имевшегося у нее запаса светлого и довольно хмельного пива. Когда
оба парламентера входили в зал, добродушно улыбающийся слуга с засученными
рукавами вновь притащил изрядное количество бутылок. И хотя наступил вечер
и было уже слишком поздно для того, чтобы пересматривать конституцию,
никто не хотел прерывать собрания и отправляться домой. Питье кофе на сей
раз было решительно отставлено.
поспешил подойти к тестю. Лебрехт Крегер был, наверно, единственный, чье
настроение не изменилось к лучшему. Высокий, надменный, молчаливый, он
сидел на прежнем месте и на сообщение консула, что экипаж сию минуту будет
подан, ответил иронически, голосом, дрожавшим не столько от старости,
сколько от горечи и обиды: "Так, значит, чернь соизволила разрешить мне
возвратиться домой?"
жестикуляцию, он оправил накинутую ему на плечи шубу и с небрежным "merci"
оперся на руку зятя, предложившего ему себя в провожатые.


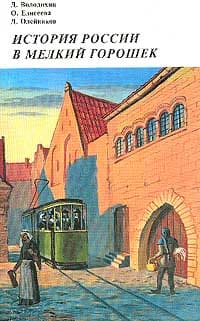



 Шилова Юлия
Шилова Юлия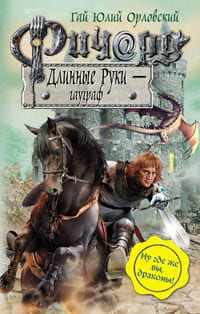 Орловский Гай Юлий
Орловский Гай Юлий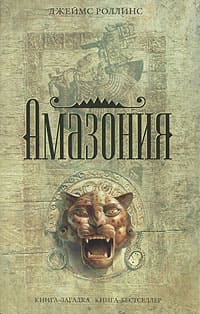 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий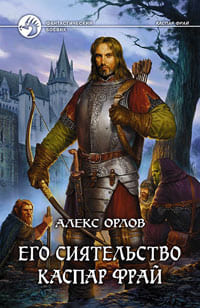 Орлов Алекс
Орлов Алекс Лукин Евгений
Лукин Евгений