время от времени пробегает мягкая, но несколько лукавая улыбка. Прокурор,
доктор Мориц Хагенштрем, рядом с которым стоит его красавица жена,
урожденная Путтфаркен из Гамбурга, усмехаясь, скалит острые редкие зубы.
Толпа на мгновенье расступается - видно, как старый доктор Грабов обеими
руками пожимает руку сенатора Будденброка, но его тут же оттесняет
архитектор Фойт. По лестнице, с распростертыми объятиями и просветленным
лицом, поднимается пастор Прингсгейм; сегодня на нем партикулярное платье,
и только сюртук, более длинный, чем принято, намекает на его духовный сан.
Фридрих Вильгельм Маркус тоже здесь. Депутации, представляющие сенат,
городскую думу и торговую палату, явились во фраках. Половина
двенадцатого. Жара уже изрядная. Хозяйка дома с четверть часа как
удалилась в свои комнаты.
туда ввалилась целая толпа, и тут же на весь дом раздается чей-то звучный,
громовый голос. Из большой гостиной, из столовой и курительной все
устремляются к лестнице, толпятся в коридоре и смотрят вниз через перила.
А там уже выстраиваются музыканты, человек пятнадцать - двадцать, с
инструментами в руках. Ими управляет господин в русом парике, с седой
морской бородой и желтыми вставными зубами. Что же там происходит? Консул
Петер Дельман вступает в дом во главе оркестра Городского театра! Вот он
уже шествует по ступенькам, потрясая пачкой программ в высоко поднятой
руке!
отдельные звуки, аккорды поглощают друг друга, становятся бессмысленными и
над всеми звуками доминирует громкое хрюканье фагота (в него с отчаянным
выражением на лице дует какой-то толстяк), - раздается серенада в честь
торгового дома "Иоганн Будденброк". Она начинается хоралом "Восславим
днесь творца", затем следует парафраз из оффенбаховской "Прекрасной
Елены", который, в свою очередь, сменяется попурри из народных песен...
Словом, программа достаточно обширная.
собирается уходить до окончания концерта. Гости стоят в коридоре, сидят в
парадных комнатах, слушают, переговариваются...
архитектором Фойтом на другой стороне площадки, у дверей в курительную,
возле лестницы, ведущей на третий этаж. Он прислонился к стене, время от
времени вставляет слово в общую беседу, но больше безмолвно смотрит поверх
перил в пустоту. Жара стала еще сильнее, еще томительнее; но, может быть,
скоро прольется дождь: тени, пробегающие по стеклянному потолку, говорят о
том, что на небе появились облака. Теперь они уже мелькают так часто, так
скоро следуют друг за другом, что от непрестанно меняющегося, неровного
освещения начинают болеть глаза. Блеск лепной позолоты, кронштейнов и
медных инструментов внизу то и дело потухает, чтобы вновь еще ярче
вспыхнуть... Только однажды набежавшая тень задержалась подольше, и тут же
стало слышно, как что-то легонько, с перерывами, раз пять или шесть
стукнуло по стеклу потолка: наверно, упало несколько градинок. И солнечный
свет опять сверху донизу залил дом.
все то, что обычно его сердит и вызывает в нем здоровую реакцию
недовольства, вдруг начинает томить его долгой, тупой, безмолвной
печалью... Так Томаса печалило поведение маленького Иоганна, печалили
чувства, вызванные в собственной его душе всем этим торжеством, а больше
всего то, что многих чувств он, при всем желании, уже не мог в себе
вызвать. Много раз пытался он ободриться, посмотреть на все иным,
просветленным взглядом, внушить себе, что это действительно счастливый
день, - день, который не может не вдохнуть в него приподнятого, радостного
настроения. И хотя грохот музыкальных инструментов, гул голосов и вид
этого множества людей возбуждали его нервы и заодно с воспоминаниями о
прошлом, об отце не раз заставляли его ощутить известную растроганность, -
но над всем этим брало верх ощущение чего-то смешного и неловкого,
неотделимое от этой пошлой музыки, искаженной нелепой акустикой, от всех
этих заурядных людей, только и знающих, что болтать о биржевых курсах и
званых обедах. Эта смесь растроганности и отвращения и повергала его в
какое-то тоскливое уныние.
театра, уже близилась к концу, произошел ничем не примечательный случай,
нисколько не нарушивший торжества, но заставивший хозяина на несколько
минут покинуть гостей. В перерыве между двумя музыкальными номерами на
парадной лестнице показался вконец смешавшийся при виде столь блестящего
собрания конторский ученик, низкорослый горбатый юноша. Весь красный от
смущения, еще ниже втянув голову в плечи и, видимо, стараясь вести себя
непринужденно, он размахивал неестественно длинной и тонкой рукой, в
которой держал сложенный вдвое листок бумаги - телеграмму. Уже поднимаясь
по лестнице, он исподтишка искал глазами хозяина и, завидев его, стал
пробираться сквозь толпу гостей, торопливо бормоча извинения.
мгновение расступились, пропуская его, и вряд ли кто-нибудь даже заметил,
как он с поклоном передал сенатору телеграмму и как тот немедленно отошел
от Кистенмакера, Гизеке и Фойта, чтобы прочесть ее. Даже в этот день,
когда приходили почти сплошь поздравительные телеграммы, Томас Будденброк
не отменил своего распоряжения: в служебное время немедленно передавать
ему, чем бы он ни был занят, любую депешу.
хода, где была еще одна дверь в зал. Там же, напротив лестницы, находилась
шахта подъемника, по которому из кухни подавались наверх кушанья, а рядом
с ней, у стены, стоял довольно большой стол, обычно служивший для чистки
серебра. Здесь сенатор остановился и, повернувшись спиной к горбатому
ученику, вскрыл депешу.
в ужасе: он вдохнул воздух столь быстро и судорожно, что в горле у него
пересохло. Он закашлялся.
коридоре заглушил его голос. "Можете идти", - повторил он, и последнее
слово было произнесено уже почти беззвучно, одними губами.
слабого движения рукой, горбун еще несколько мгновений недоуменно
переминался с ноги на ногу. В конце концов он все-таки отвесил неловкий
поклон и стал спускаться по черной лестнице.
державшие развернутую депешу, беспомощно свесились вдоль туловища, он
дышал полуоткрытым ртом, трудно и быстро, его грудь тяжело вздымалась и
опускалась, он мотал головой бессознательно и беспрерывно, как человек,
которого постиг удар.
заволокла его полуоткрытые глаза. Он еще раз тяжело качнул головой и
двинулся с места.
ступая по блестящему, как зеркало, полу, он пересек огромную комнату и в
самом дальнем конце ее опустился на один из темно-красных угловых диванов.
Здесь было прохладно и тихо. Из сада слышался плеск фонтана. Муха билась
об оконное стекло. Многоголосый шум, наполнявший дом, сюда доносился
глухо.
он, с силой выдохнул воздух и уже свободно, с облегчением повторил: - Да,
так оно к лучшему!
минут неподвижно, потом приподнялся, сложил телеграмму, сунул ее в карман
сюртука и встал, чтобы снова выйти к гостям.
Опять заиграла музыка... Этот нелепый шум, видимо, должен был изображать
галоп. Литавры и тарелки отбивали ритм, которого не придерживались другие
инструменты, вступая то преждевременно, то с опозданием. Это была
назойливая и в своей наивной непосредственности нестерпимо раздражающая
какофония - треск, грохот, пиликанье, - вдобавок еще пронизываемая наглым
взвизгиваньем флейты-пикколо.
6
органист Мариенкирхе, в волнении расхаживая по гостиной.
примостившись в кресле, слушал, обхватив обеими руками колени.
контрапунктом... без сомнения, он создал современную гармонию! Но каким
путем? Неужели же мне вам объяснять? Дальнейшим развитием
контрапунктического стиля - вам это известно не хуже, чем мне! Какой же
принцип лег в основу этого развития? Гармония? О нет! Ни в коем случае!
Контрапункт, и только контрапункт, сударыня! К чему, скажите на милость,
привели бы самодовлеющие эксперименты над гармонией? Я всех предостерегаю
- да, покуда мой язык мне повинуется, всех предостерегаю от подобных
экспериментов над гармонией!
умерить его, ибо в этой гостиной чувствовал себя как дома. Каждую среду, в
послеобеденный час, на пороге появлялась его рослая, угловатая, немного
сутулая фигура в кофейного цвета сюртуке, полы которого доходили до колен.
В ожидании своей партнерши он с любовью открывал бехштенновский рояль,


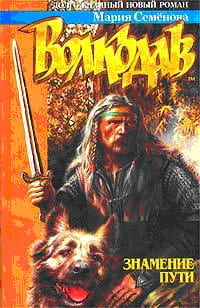



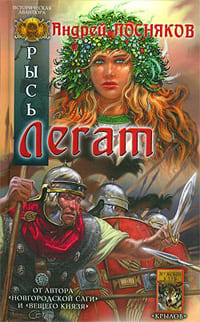 Посняков Андрей
Посняков Андрей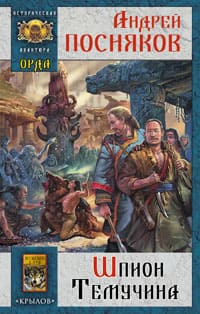 Посняков Андрей
Посняков Андрей Самойлова Елена
Самойлова Елена Никитин Юрий
Никитин Юрий Самойлова Елена
Самойлова Елена Ларссон Стиг
Ларссон Стиг