большую их часть, и ему было бы совсем нетрудно, ну хоть немного,
порадовать папу, если бы... это было-возможно, если бы этому не мешало
какое-то неодолимо грустное ощущение... Строгий оклик отца, стук вилкой о
подставку заставляли его вздрагивать. Он смотрел на мать, на Иду и пытался
что-то ответить, но с первых же слов начинал всхлипывать. Ничего у него не
получалось!
хочу. Можешь не отвечать мне. Можешь весь век сидеть молча и таращить
глаза!
отсутствие бодрости, энергии и ссылался сенатор, восставая против
страстного увлечения сына музыкой.
боли причиняли ему зубы. Прорезыванье молочных зубов, сопровождавшееся
лихорадкой и судорогами, едва не стоило ему жизни, а впоследствии десны у
него часто воспалялись и нарывали. Дождавшись, покуда такой нарыв созреет,
мамзель Юнгман обычно прокалывала его булавкой. Теперь, когда стали
выпадать молочные-зубы, страдания Ганно приумножились. Боль почти
превосходила его силы. Ночи напролет Ганно проводил без сна, плакал и
тихонько стонал в полузабытьи и жару, не вызванным ничем, кроме этих
болей. Его зубы, красивые и белые, как у матери, но необыкновенно рыхлые и
слабые, росли неправильно, напирая друг на друга. Чтобы положить конец
всем этим неприятностям, маленькому Иоганну пришлось открыть доступ в свою
жизнь страшному человеку - г-ну Брехту, зубному врачу Брехту с
Мюленштрассе.
треск челюсти, из которой тянут, выворачивают и выламывают корни зуба,
сжимал страхом сердце Ганно, когда он, сидя в приемной г-на Брехта,
напротив своей неизменной Иды, перелистывал иллюстрированные журналы и
вдыхал особенный едкий запах этого помещения, покуда г-н Брехт с учтивым,
но внушавшим трепет "прошу" не появлялся на пороге своего кабинета.
большой пестрый попугай с злобными глазками, сидевший в самой середине
медной клетки, в одном из углов комнаты, и по каким-то неизвестным
причинам прозывавшийся Иозефусом. Голосом взбеленившейся старухи он
выкрикивал: "Присядьте! Сию минутку!.." И хотя в данных обстоятельствах
эти слова звучали как злая насмешка, Ганно все же влекло к нему смешанное
чувство любви и страха. Попугай! Большая пестрая птица, которая зовется
Иозефусом и умеет говорить, - словно прилетевшая из заколдованного леса,
из сказки Гримма (*61), которую Ида читает ему дома... "Прошу!" г-на
Брехта Иозефус тоже повторял, притом весьма настоятельно, почему вдруг и
оказывалось, что Ганно со смехом входил в кабинет и усаживался в весьма
неуютном кресле у окна, возле бормашины.
нос загибался книзу, к черным с проседью усам, таким же крючком, как и
клюв попугая. Но самое печальное, даже ужасное, заключалось в том, что г-н
Брехт, будучи субъектом весьма нервным, сам страдал от мучений, которые
он, в силу своей профессии, причинял другим.
и бледнел. И когда Ганно, весь в холодном поту, с расширенными от ужаса
глазами, не в силах выразить протест, не в силах вскочить с кресла и
убежать, в душевном состоянии, ничем не отличающемся от состояния
приговоренного к смертной казни, видел, как г-н Брехт со щипцами,
запрятанными в рукав, приближается к нему, - он мог бы заметить, что на
голом черепе почтенного дантиста выступают капельки пота, а рот его, так
же как рот пациента, искривлен от страха. Когда отвратительная процедура
бывала закончена и Ганно, бледный, трясущийся, с мокрыми от слез глазами и
искаженным лицом, сплевывал кровь в синий тазик над подлокотником кресла,
г-н Брехт присаживался тут же в сторонке, чтобы отереть лоб и выпить
глоток воды.
его от еще больших мучений. Но когда Ганно сравнивал боль, причиненную ему
г-ном Брехтом, с положительными и ощутимыми результатами, достигнутыми
путем таких страданий, то первая настолько перевешивала, что визиты на
Мюленштрассе все равно казались ему самым жестоким изо всех бесполезных
мучительств на земле. В ожидании зубов мудрости, которым еще бог знает
когда предстояло появиться, решено было удалить четыре коренных зуба,
только что выросших, белых, красивых, еще совершенно здоровых, и так как
родители боялись перенапрячь слабые силы ребенка, то на это потребовалось
целых четыре недели. Ужасное время! До бесконечности растянутая пытка,
когда страх предстоящих страданий наступал раньше, чем восстанавливались
силы от уже перенесенных! После того как г-н Брехт удалил последний зуб,
Ганно целую неделю пролежал больной от пережитых мучений.
функции отдельных его органов. Невозможность хорошо прожевывать пищу
неизбежно приводила к расстройству пищеварения, более того - к приступам
гастрической лихорадки; а желудочные недомогания, в свою очередь, имели
следствием сердцебиения или, напротив, упадок сердечной деятельности,
сопровождавшийся головокружениями.
силой, тот странный недуг, который доктор Грабов называл "pavor
nocturnus". Редкая ночь проходила без того, чтобы маленький Иоганн раз, а
то и два не вскакивал, ломая руки в мольбе о помощи, о пощаде. Можно было
подумать, что он объят пламенем, что его душат, что вокруг происходит
что-то невыносимо страшное... Наутро он ничего об этом не помнил. Доктор
Грабов попытался было поить его на ночь черничным настоем, но пользы это
не принесло ни малейшей.
приходилось претерпевать, не могли не развить в нем преждевременного
чувства умудренности жизнью. Правда, эта умудренность, вероятно в силу его
врожденного хорошего вкуса, редко бросалась в глаза, и если время от
времени все же сказывалась, то лишь в каком-то грустном превосходстве над
окружающими.
или дамы Будденброк с Брейтенштрассе.
легкое пожатие плеч под голубым матросским воротником.
серьезной стороны и потому убежденный, что лгать по таким пустякам не
стоит.
переходами и готическими сводами в классных комнатах. Частые пропуски по
болезни и полнейшая невнимательность в часы, когда он думал о каком-нибудь
гармоническом звукосочетании или о еще неразгаданных чудесах музыкальной
пьесы, сыгранной матерью и г-ном Пфюлем, не способствовали его успехам в
науках, а младшие учителя и студенты учительской семинарии, преподававшие
в низших классах, подчиненное положение которых, равно как их духовное
убожество и физическую нечистоплотность, он ощущал острее, чем нужно,
внушали ему наряду со страхом наказания еще и тайное неуважение.
сюртуке, служивший здесь еще во времена покойного Марцеллуса Штенгеля и до
ужаса косоглазый - недостаток, скрываемый им при помощи очков, круглых и
толстых, как корабельные иллюминаторы, - почитал своим долгом на каждом
уроке напоминать Ганно, как прилежен и сообразителен был в свое время его
отец. С г-ном Титге часто случались приступы кашля, и он отхаркивал
мокроту прямо на пол.
отношения с ними носили чисто поверхностный характер. Только с одним
соучеником с первых же школьных дней его связала тесная дружба. Это был
мальчик аристократического происхождения, но с виду крайне неряшливый -
некий граф Мельн, по имени Кай.
костюмчик, на котором кое-где недоставало пуговиц, а сзади на брюках
красовалась большая заплата. Узкие руки Кая - необыкновенно изящной формы,
с длинными пальцами и длинными же овальными ногтями, - выглядывавшие из
слишком коротких рукавов, были до того пропитаны пылью и грязью, что кожа
на них казалась серой. В таком же запущенном состоянии находилась и его
голова, растрепанная, непричесанная, но от природы отмеченная всеми
признаками чистой и благородной крови. Рыжевато-золотистые волосы,
разделенные посередине неровным пробором, оставляли открытым его лоб,
белый, как алебастр, под которым блестели светло-голубые глаза, вдумчивые
и в то же время пронзительные. Скулы на его лице слегка выдавались, а в
носе с тонкими ноздрями и маленькой горбинкой было что-то очень
характерное, так же как и в его слегка оттопыренной верхней губе.
прогулок, которые он совершал с Идой, два или три раза мельком видеть Кая.
К северу от Городских ворот, не доходя первой деревни, в стороне от дороги
стоял хуторок - захудалая, бедная усадебка, не имевшая даже названия. За
ее оградой виднелась только навозная куча, несколько кур, собачья конура
да какое-то убогое строение с отлогой черепичной крышей - господский дом,
обиталище отца Кая, графа Эбергарда Мельна.
поглощенный разведением кур, собак и овощей, был высокий мужчина с голым
черепом и седой бородой, огромной, как у сказочного великана. Он всегда
ходил с моноклем под кустистой бровью, в ботфортах, в зеленой
грубошерстной куртке, с хлыстом в руках - хотя лошадей у него не было и в


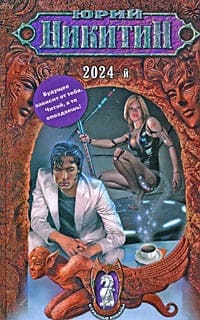
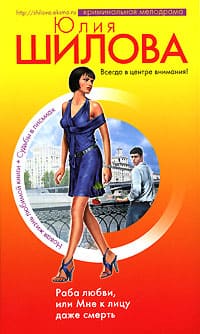

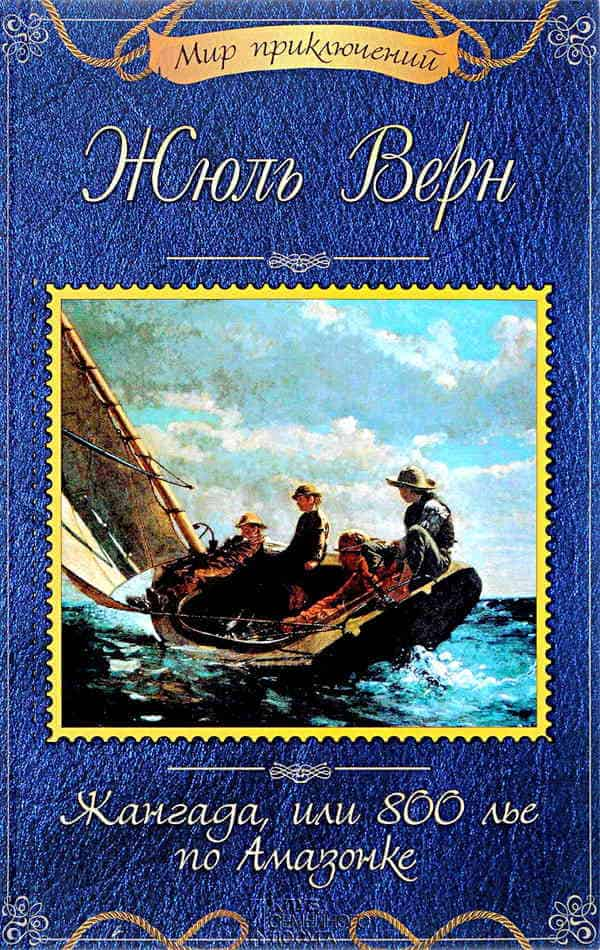
 Никитин Юрий
Никитин Юрий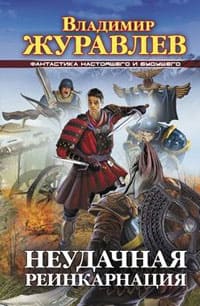 Журавлев Владимир
Журавлев Владимир Шилова Юлия
Шилова Юлия Майер Стефани
Майер Стефани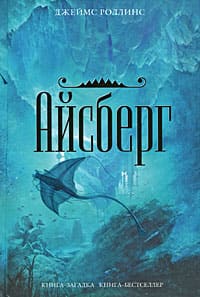 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс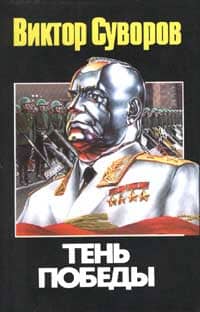 Суворов Виктор
Суворов Виктор