индивидуализм, которому открывается простор лишь в сфере религиозной и
мистической, в так называемой "нравственно неупорядоченной вселенной". А что
представляет и на что может претендовать столь ценимая господином
Сеттембрини нравственность? Она по рукам и по ногам связана жизнью, - стало
быть, чисто утилитарна, стало быть, на редкость убога и негероична, достойна
сожаления. Она учит, как дожить до глубокой старости счастливым, богатым и
здоровым и ничего больше. Вот это-то рассудочное и сугубо практическое
филистерство заменяет ему этику. Что касается Нафты, то он позволит себе еще
раз назвать ее жалкой жизнеутверждающей буржуазностью.
Сеттембрини просил его умерить свой полемический пыл, но у него самого
голос дрожал от волнения, когда он указал на нетерпимость того, что Нафта
постоянно толкует о жизнеутверждающей буржуазности каким-то бог весть почему
аристократически-пренебрежительным тоном, словно противоположное, а ведь
известно, что противоположно жизни - нечто особенно благородное!
Опять только громкие слова и фразы! Теперь они заспорили о благородстве
и аристократизме! Ганс Касторп, разгоряченный и ослабевший от мороза и
непосильных проблем, не соображая, насколько вразумительны или лихорадочно
смелы употребляемые им выражения, онемевшими губами промямлил, что всегда
представлял себе смерть в накрахмаленных испанских брыжах или во всяком
случае, так сказать, в полупарадной форме, с высоким, подпирающим подбородок
воротником, а жизнь, наоборот, в таком обычном современном отложном
воротничке... Но затем сам испугался произнесенных, будто спьяну или в
бреду, неприличных слов и стал уверять, что вовсе не то хотел сказать. Но
ведь правда, что есть люди, определенная категория людей, которых просто
невозможно представить себе мертвыми, именно потому, что уж очень они
обыденны! То есть так уж они жизнеспособны, что кажется, будто они никогда
не умрут, будто они недостойны таинства смерти.
Господин Сеттембрини выразил твердую надежду, что Ганс Касторп говорит
все это лишь затем, чтобы ему возражали. Молодой человек может быть уверен,
что ему всегда с радостью будет оказана всяческая помощь в его духовной
борьбе с подобными заскоками. "Жизнеспособны", говорит он? "Жизнедостойны" -
вот какое слово следовало бы употребить, и тогда понятия предстали бы перед
ним в их стройной и изящной последовательности. "Жизнедостойны" - и сразу же
по простейшей и закономернейшей аналогии напрашивается понятие
"любвидостойны", самым тесным образом связанное с первым, так что мы вправе
сказать, что лишь истинно достойное жизни одновременно и истинно достойно
любви. А оба вместе, то есть достойное жизни и, стало быть, любви,
составляют то, что мы именуем благородством.
Ганс Касторп счел это восхитительным и весьма интересным. Господин
Сеттембрини, сказал он, совершенно пленил его своей пластической теорией.
Ибо что ни говори, - а кое-что можно бы возразить, ну, например, что болезнь
- приподнятое жизненное состояние и, следовательно, в ней есть нечто
торжественное, - одно несомненно ясно, болезнь выдвигает на первый план
телесное начало, заставляет человека целиком и полностью концентрироваться
на своем теле и таким образом губительна для достоинства человека, которого
она принижает, оставляя ему одно только тело. Следовательно, болезнь
обесчеловечивает.
Болезнь в высшей степени человечна, не замедлил возразить Нафта ибо
быть человеком значит быть больным. Человеку присуща болезнь, она-то и
делает сто человеком, а тот, кто хочет его оздоровить, заставить его пойти
на мировую с природой, "вернуть к естественному состоянию" (в котором,
кстати, он никогда не пребывал), все эти подвизающиеся ныне обновители,
апостолы сырой пищи, проповедники воздушных и солнечных ванн, всякого рода
руссоисты, добиваются лишь его обесчеловечивания и превращения в скота...
Человечность? Благородство? Дух - вот что отличает от всей прочей
органической жизни человека, это в большой степени оторвавшееся от природы,
в большой степени противопоставляющее себя ей живое существо. Стало быть, в
духе, в болезни заложено достоинство человека и его благородство иными
словами: в той мере, в какой он болен, в той мере он и человек гений
болезни неизмеримо человечнее гения здоровья. Можно только удивляться, что
тот, кто изображает из себя друга человечества, закрывает глаза на такие
основные человеческие истины. Господин Сеттембрини на все лады склоняет
слово прогресс. Но разве прогресс, если он в самом деле существует, не
обязан всем болезни, то есть гению, - а что такое гений, как не болезнь! И
разве здоровые во все времена и эпохи не жили открытиями, добытыми болезнью!
Были люди, которые сознательно и намеренно обрекали себя на болезнь и
безумие, чтобы добыть людям знания, служившие здоровью, после того как были
обретены безумием, и обладание и пользование которыми после подобного акта
героического самопожертвования уже не предопределялось болезнью и безумием.
Это и есть истинная Голгофа.
"Ах ты впадший в ересь иезуит с комбинациями! - подумал Ганс Касторп. -
Так вот как ты толкуешь Голгофу! Теперь понятно, почему ты не стал патером,
joli je uite a la etite tache humide!* Ну-ка, рыкни на него погрознее,
лев!" - мысленно обратился он к Сеттембрини. И лев "рыкнул", объявив все,
что перед тем утверждал Нафта, фантасмагорией, казуистикой, развращением
умов. - Скажите прямо и недвусмысленно, - кричал он своему оппоненту, -
скажите со всей ответственностью воспитателя и наставника перед лицом этих
юных неофитов, что дух есть болезнь! Без сомнения, это поистине пробудит в
них дух и заставит их уверовать в него! А если вы к тому же объявите болезнь
и смерть благородными, а здоровье и жизнь подлыми, то это будет вернейший
способ вдохновить малых сих на служение человечеству. Davvero, e
crimi o o!** - И он как рыцарь ринулся в бой на защиту благородства здоровья
и жизни, которые дарует природа и которым незачем тревожиться о духе.
"Форма!" - говорил он, а Нафта высокопарно отвечал: "Логос!" Но тот, который
знать ничего не хотел о логосе, возглашал: "Разум!" - тогда как поборник
логоса ратовал за "страсть". Это сбивало с толку. "Объект!" - кричал один.
"Субъект!" - восклицал другой. Под конец один даже заговорил об "искусстве",
а другой о "критике", и, конечно, снова и снова речь шла о "природе" и
"духе" и о том, что из них более благородно, о "проблеме аристократизма". Но
никакой стройной и ясной концепции не получалось, пусть даже не одной, а
двух противоположных и враждующих ибо все говорилось не только в пику
противнику, но и невпопад, и оппоненты не только противоречили друг другу,
но и самим себе. Сеттембрини, который раньше неоднократно пел дифирамбы
критике, теперь ссылался на то, в чем видел ее антипод, на искусство, как на
аристократический принцип. А Нафта, обычно защищавший природный инстинкт в
своих спорах с Сеттембрини, который трактовал природу как "слепую силу" и
"грубый факт и рок", перед коими разум и гордость человеческая никогда не
должны смиряться, теперь становился на сторону духа и болезни, в них только
и видя благородство и человечность, тогда как итальянец, позабыв об
эмансипации духа, выступал как адвокат природы и благородства, даруемого ей
здоровьем. Не менее путано обстояло дело и с "объектом" и "субъектом". Здесь
и так уже царившая неразбериха достигла своего апогея, и никто толком не
знал, кто из них, собственно, благочестив, а кто свободомыслящ. Нафта, разя
противника, запретил Сеттембрини называть себя "индивидуалистом", ибо он
отрицает противоречие между богом и природой, видит проблему человеческой
личности, основу ее внутреннего конфликта исключительно в противоречии между
личными и общими интересами, а следовательно, является ярым приверженцем
связанной с жизнью буржуазной морали, почитающей жизнь самоцелью, весьма
негероично пекущейся лишь о пользе и усматривающей в благе государства
высший нравственный закон, тогда как он, Нафта, хорошо зная, что проблема
человеческой души прежде всего состоит в столкновении чувственного и
сверхчувственного, выступает поборником подлинного, мистического
индивидуализма, истинным защитником свободы и субъекта. Так ли это, думал
Ганс Касторп, и как же это согласуется с "безымянным и коллективным" - чтобы
в качестве примера сразу указать хотя бы на одну из бесчисленных
несообразностей? И как же тогда быть с теми оригинальными замечаниями,
которыми юный Нафта захотел поразить патера Унтерпертингера: с католицизмом
государственного философа Гегеля и внутренней связью, существующей между
"политикой" и "католицизмом", с категорией "объективного", к которому оба
эти понятия принадлежат? Разве искусство управления государством и
воспитание не представляли излюбленного поля деятельности ордена, к которому
принадлежал Нафта{175}? И какое воспитание! Господин Сеттембрини,
несомненно, ревностный педагог, ревностный до того, что становился подчас
назойливым и обременительным, но в отношении аскетического, попирающего
личность объективизма его принципы никак не могли тягаться с принципами
Нафты. Категорический приказ! Железная спаянность! Насилие! Послушание!
Террор! В этих принципах могло быть свое благородство, но достоинство
индивидуума и его право на критику здесь вряд ли принимались в расчет. То
был строевой устав пруссака Фридриха и испанца Лойолы, жесткий и
ортодоксальный до кровавого пота, но тут возникал вопрос: каким образом
Нафта, собственно говоря, пришел к такой кровавой необходимости, раз он, по
его собственным словам, не верил ни в какое чистое познание и
беспристрастное исследование, - словом, не верил в истину, объективную
научную истину, стремление к которой было для Лодовико Сеттембрини высшим
законом человеческой нравственности? Сеттембрини в данном случае был
ортодоксален и строг, а Нафта - морально шаток и распущен, поскольку он
пристегивал истину к человеку и заявлял: истинно то, что человеку на пользу!
Разве не жизнеутверждающая буржуазность и не филистерский утилитаризм
ставить истину в такую тесную зависимость от интересов человека? Какая же
это железная объективность? В этом больше свободы и субъективизма, чем на то
согласился бы Лео Нафта, и вместе с тем это, конечно, политика, такая же
политика, как и нравоучительное изречение Сеттембрини: свобода есть высший
закон человеколюбия. Разве это не значило связать свободу, как Нафта
связывал истину, а именно, связать ее с человеком. Тут было, несомненно,
больше ортодоксального благочестия, нежели свободомыслия, это опять-таки
различие, которое в подобного рода спорах легко может быть утрачено совсем.
Ах, этот господин Сеттембрини! Недаром же он литератор, то есть внук
политика и сын гуманиста. Он прекраснодушно толковал о критике и красоте
духовного раскрепощения и подмигивал девушкам на улице, тогда как
язвительно-острого маленького Нафту связывали строгие обеты. И все же





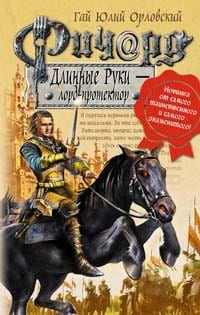
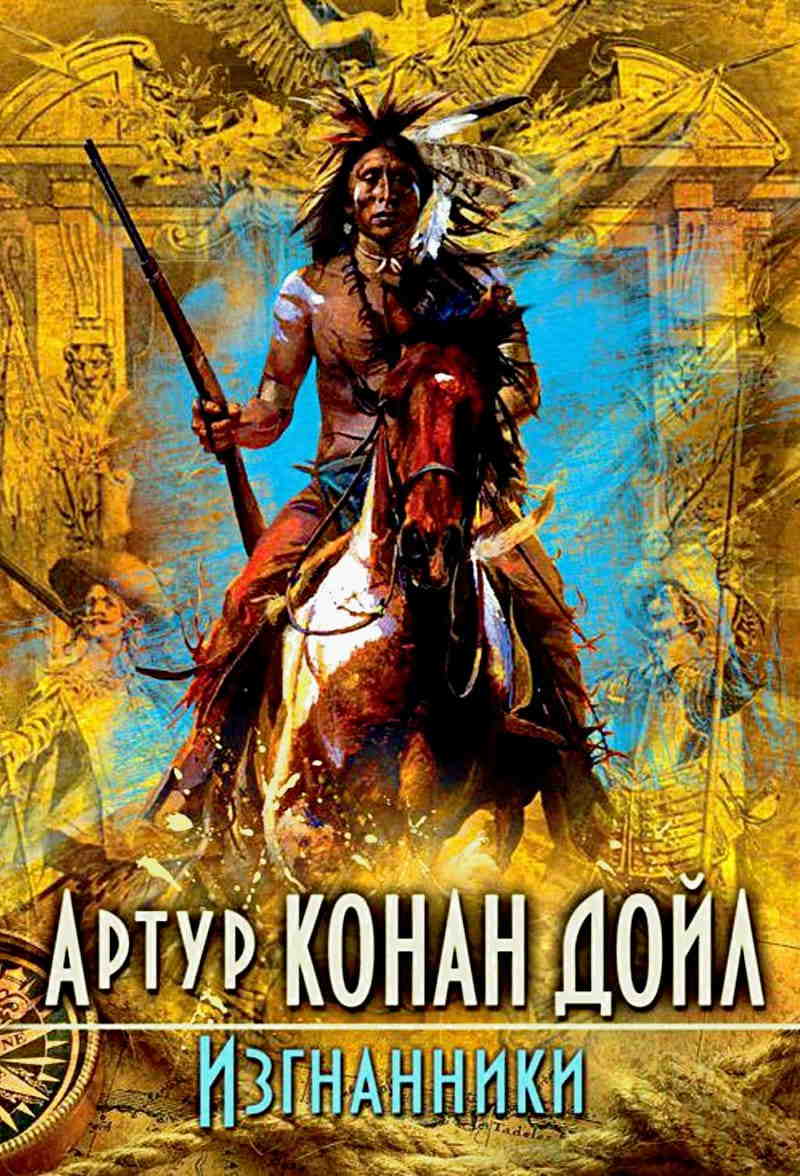 Конан-Дойль Артур
Конан-Дойль Артур Шилова Юлия
Шилова Юлия Майер Стефани
Майер Стефани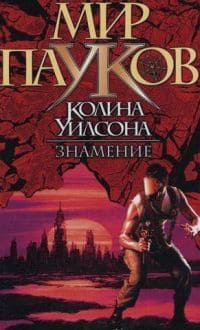 Прозоров Александр
Прозоров Александр Афанасьев Роман
Афанасьев Роман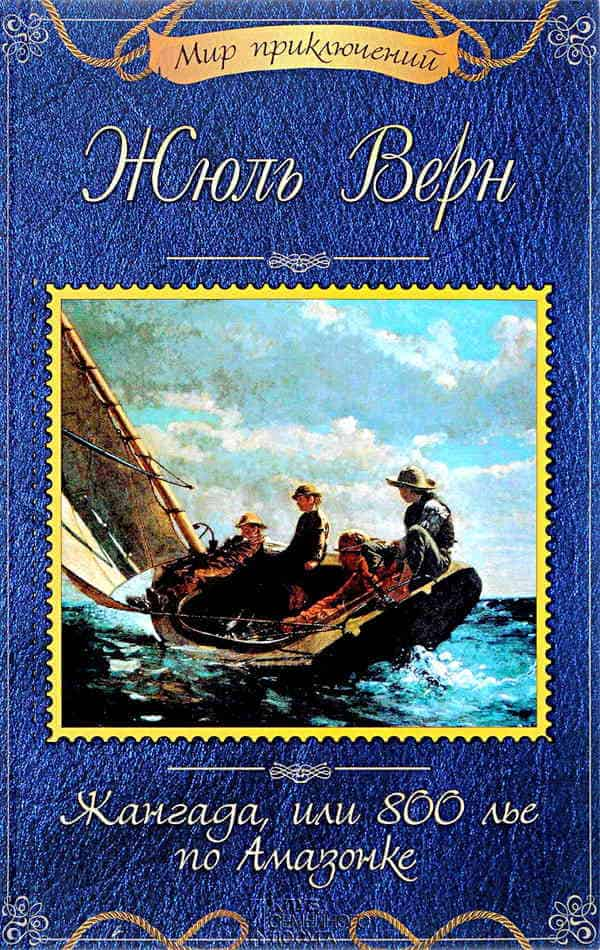 Жюль Верн
Жюль Верн