путь. Но пути-то ведь не было, держать направление, хоть приблизительное
направление домой, в долину, можно было лишь с помощью счастливого случая, а
не разума, ибо если руку, поднятую до уровня глаз, с грехом пополам еще
можно было разглядеть, то носы лыж уже находились вне поля зрения. Впрочем,
если б он и лучше видел, природа все равно бы не поскупилась на козни, до
крайности затруднявшие продвижение вперед. Лицо, залепленное снегом! Ветер
словно лютый враг! Он перехватывал дыхание, вовсе пресекал его, не давая
сделать ни вдоха, ни выдоха, так что Гансу Касторпу то и дело приходилось
отворачивать лицо, чтобы судорожно глотнуть воздуха. Ну как тут было
продвигаться вперед ему или другому, пусть более сильному, когда на каждом
шагу надо было останавливаться, усиленно моргать, чтобы стряхнуть воду с
ресниц, сбивать с себя плотную снежную броню, сознавая, что идти вперед в
этих условиях неразумно и дерзко?
И все-таки Ганс Касторп устремлялся вперед, вернее, кое-как
продвигался. Но было ли такое продвижение целесообразным, не потерял ли он
направление и не умнее ли было вовсе не двигаться с места (что
представлялось ему невозможным), этого он не знал. Теоретическая вероятность
говорила об обратном, практически же Гансу Касторпу вскоре показалось, что с
почвой у него под ногами не все обстоит благополучно, словно не та это
почва, то есть не ровная поляна, на которую с превеликим трудом он
вскарабкался из теснины и с которой следовало пуститься в обратный путь.
Ровное место подозрительно быстро осталось позади: он опять шел вверх.
По-видимому, ураганный ветер, дувший с юго-запада, со стороны, где кончалась
долина, оттеснял его своим яростным напором. Напрасны были усилия, которыми
он так долго изнурял себя. Вслепую, среди вихрей белого мрака, он лишь
глубже уходил в равнодушно-грозное ничто.
"Ну и ну!" - сквозь зубы процедил он и остановился. Патетичнее он не
выразился, хотя на мгновение ему и почудилось, что холодная, как лед, рука
сдавила его сердце, отчего оно замерло и потом часто-часто застучало в
ребра, как тогда, когда Радамант обнаружил у него влажный очажок. Он
сознавал, что не имеет права на пышные слова и жесты, он сам бросил вызов, и
пенять ему оставалось только на себя. "Недурно", - проговорил он и
почувствовал, что его лицевые мускулы, мышцы, от которых зависело выражение
лица, больше не повинуются душе и ничего уже не могут выразить, ни страха,
ни ярости, ни презрения, ибо они окоченели. "А что теперь? Наискосок вниз, а
потом вперед и все время нос по ветру? Легче сказать, чем сделать!"
Отрывисто, задыхаясь, он все же вполголоса проговорил эти слова и опять
двинулся вперед: "Но надо что-то предпринять, сидеть и ждать невозможно.
Меня засыплет эта шестиугольная симметрия, и Сеттембрини, когда он придет со
своим рожком посмотреть, что со мною сталось, увидит, что я сижу здесь с
остекленевшими глазами и в снежной шапке набекрень..." Он заметил, что
разговаривает сам с собой и вдобавок несколько странно. Настрого запретив
себе такой разговор, он тут же возобновил его вполголоса, но тем
выразительнее, хотя губы у него онемели, так что говорить приходилось, не
двигая губами и без согласных, которые образуются с их помощью, и это
невольно ему напомнило один случай из его жизни, когда дело обстояло точно
так же. "Молчи и старайся идти вперед, - произнес он и добавил: - Ты,
кажется, заболтался и в голове у тебя какая-то муть. В известном отношении
это плохо".
Однако утверждение, что это плохо с точки зрения необходимости
выбраться отсюда, было лишь утверждением контролирующего разума, словно бы
стороннего, непричастного, хотя в известной мере и заинтересованного лица.
Собственное его естество склонялось к тому, чтобы отдаться во власть
неясности, которая все больше завладевала им по мере того как росла
усталость но он поймал себя на этом желании и стал о нем размышлять. "Это
изменившаяся психика и ощущения того, кто застигнут пургой в горах и не
находит дороги домой, - думал он, работая ногами и руками, и, задыхаясь,
бормотал себе под нос обрывки этих мыслей, тактично избегая более
определенных выражений. - Тому, кто задним числом узнает об этом, это
кажется ужасным, но он забывает, что болезнь - а ведь мое положение в
известной мере болезнь - так приспосабливает к себе свою жертву, что они
преотлично друг с другом уживаются. Тут вступают в действие понижения
чувствительности, благодатные наркозы и прочие природные болеутоляющие
средства... Да, конечно... Но против них надо бороться, потому что они
двулики, в высшей степени двусмысленны, и оценка их зависит исключительно от
точки зрения. Они здорово придуманы, - истинное благодеяние, если тебе уже
не суждено вернуться домой но ничего нет зловреднее их, и с ними надо
бороться всеми силами, поскольку еще может идти речь о возвращении, как
сейчас для меня, ибо я отнюдь не намерен, всем буйно бьющимся сердцем своим
не намерен, позволить дурацки-равномерной кристаллометрии меня засыпать..."
Он и вправду уже очень обессилел и наступившую неясность сознания
пытался преодолеть тоже каким-то неясным, лихорадочным усилием. Он не
испугался, как испугался бы в нормальном состоянии, когда заметил, что опять
уже тащится не по ровному месту на сей раз он, видимо, вышел на ту сторону,
где поляна круто шла книзу. При спуске встречный ветер дул сбоку, - значит,
спускаться еще не следовало, но в данный момент ему ничего другого не
оставалось. "Ладно уж, - подумал он, - внизу опять возьму нужное
направление". Так он и сделал, или вообразил, что сделал, или даже и не
вообразил, а еще вернее, ему было все равно, правильно он идет или
неправильно. Такие у него начинались провалы в сознании, и боролся он с ними
уже вяло. Смесь усталости и возбуждения - обычное и длительное состояние
новичка в этих краях, акклиматизация которого состоит "в привычке не
привыкать", настолько усилилась в обеих своих составных частях, что о
разумном отношении к провалам сознания не могло быть и речи. С помутневшей,
одурманенной головой, он весь дрожал от раздражения и душевной
взволнованности, как после коллоквиума с Нафтой и Сеттембрини, только много
сильнее. Поэтому-то он, наверно, и приукрашал свою вялость в борьбе против
наркотических провалов опьяняющими воспоминаниями о тогдашних рассуждениях,
вопреки своему презрительному негодованию при мысли быть погребенным под
шестиугольной симметричностью, он беззвучно бормотал что-то, то ли
осмысленное, то ли несуразицу: что, мол, чувство долга, заставляющее его
вступать в борьбу с подозрительным понижением чувствительности, это голая
этика, иными словами - воплощенное безверие, жалкая "жизнеутверждающая
буржуазность". Потребность, искушение лечь и отдохнуть до такой степени
овладели им, что он говорил себе: это как песчаный вихрь в пустыне, который
заставляет арабов плашмя бросаться на землю и натягивать на голову бурнус.
Только одно обстоятельство, думал он, а именно, что у него нет бурнуса,
шерстяной свитер же толком на голову не натянешь, удерживает его от такого
поступка, хотя он взрослый человек и имеет довольно точные сведения о том,
как люди замерзают.
После сравнительно не очень быстрого спуска и краткого продвижения по
ровной местности пред ним вновь оказался подъем, и к тому же довольно
крутой. Возможно, что сейчас он взял верное направление, ведь по дороге в
долину обязательно надо было преодолеть подъем, что же касается ветра, то
ему, видно, вздумалось перемениться, ибо теперь он дул Гансу Касторпу в
спину, что само по себе было не так уж плохо. Но что это? Пурга пригибает
его к земле или мягкий белый косогор, затянутый сумеречным пологом метели,
манит отдохнуть его усталое тело? Если он и поддастся искушению, то ведь
только чтобы прислониться на секунду, а искушение велико, так велико, как о
том говорилось в книжке, где оно было названо "типически опасным". Но ведь
от этого ничуть не умалялась его нынешняя, животрепещущая сила! Искушение
утверждало свои индивидуальные права, никак не хотело встать в один ряд с
общеизвестными понятиями, отказывалось узнать себя в них, заявляло о своей
единственности и несравненной настойчивости, не отрицая, впрочем, что оно
нашептано, внушено некиим существом в черном испанском одеянии и белоснежных
туго наплоенных брыжах, с представлением о котором, с самой его идеей,
связано немало мрачного, явно иезуитского, человеконенавистнического, всякие
там истязания и пытки, столь омерзительные господину Сеттембрини. Но нельзя
не признать, что и господин Сеттембрини, всему этому себя
противопоставляющий, достаточно смешон со своей шарманкой и своим
ragio e...*
______________
* Разумом (итал.).
И все-таки Ганс Касторп проявлял выдержку, не поддавался соблазну
прислониться. Он ничего не видел, но боролся и шел вперед, - было это
осмысленно или нет, но он двигался, вопреки тягчайшим оковам, в которые
мороз и вьюга все беспощаднее его заковывали. Подъем был для него слишком
крут, почему он безотчетно свернул в сторону и некоторое время шел вдоль
косогора. Чтобы разомкнуть судорожно сжатые веки и попытаться хоть что-то
увидеть, требовалось усилие, заведомо бесполезное, отчего он его и не делал.
Временами он, правда, кое-что видел: сгрудившиеся в кучку ели, ручей или
обрыв, черной полосою пролегающий меж нависшими снежными краями а когда его
для разнообразия опять потащило под гору, на сей раз уже против ветра, он
заметил в некотором отдалении как бы взнесенную ввысь снежными вихрями тень
человеческого жилья.
Долгожданное, утешительное зрелище! Молодец он, что этого добился,
несмотря на все препятствия, ведь вот уже виден дом, создание рук
человеческих, а значит недалеко и до обитаемой долины. Может быть, в доме
есть люди, может быть, он войдет к ним, в тепло, переждет под крышей
непогоду и на худой конец попросит себе провожатого, если к тому времени уже
наступит ночь. Он двигался к этой химере, к неопределенности, то и дело
исчезавшей в ненастном сумраке, и чтоб до нее добраться, преодолел еще один
изнурительный подъем против ветра, но, подойдя к ней вплотную, с
негодованием, с удивлением, со страхом и чувством дурноты убедился, что это
знакомая хижина с камнями на крыше, а ведь он столько затратил сил, столько
прошел кружных путей - лишь затем, чтобы вновь отвоевать ее.
Вот дьявольщина! Энергические проклятия (без согласных) сорвались с
окоченевших губ Ганса Касторпа. Он протащился, однако, кругом хижины, чтобы
сориентироваться, и установил, что на сей раз подошел к ней с тыльной


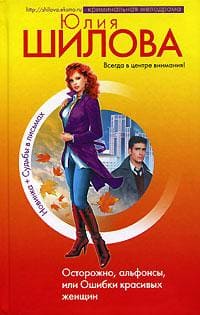

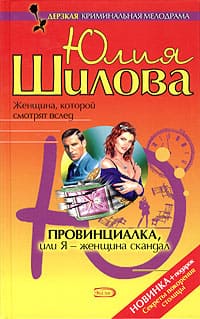

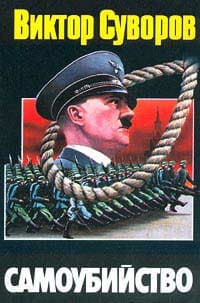 Суворов Виктор
Суворов Виктор Корнев Павел
Корнев Павел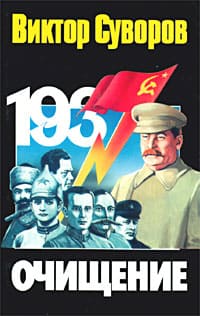 Суворов Виктор
Суворов Виктор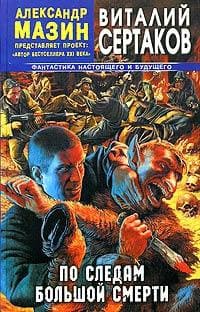 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Херберт Фрэнк
Херберт Фрэнк Земляной Андрей
Земляной Андрей