них своим хитроватым и дружелюбным взглядом. Тут был и унылый Везаль, с его
воспаленным влечением к мадам Шоша, пресмыкавшийся перед Пеперкорном и
Гансом Касторпом и почитавший одного за то, что он оказался хозяином
положения в настоящем, а другой - в прошлом. Тут была и сама Клавдия Шоша, с
ее пленительной крадущейся походкой, пациентка и путешественница,
верноподданная Пеперкорна, но втайне неизменно встревоженная и обиженная
тем, что рыцарь одной давнишней карнавальной ночи находится на столь
короткой ноге с ее теперешним повелителем. Не напоминало ли это раздражение
до известной степени то чувство, которое некогда определило ее отношение к
Сеттембрини? К этому краснобаю и гуманисту, которого она терпеть не могла,
утверждая, что он высокомерен и бесчеловечен? К другу-педагогу молодого
Ганса Касторпа, у которого ей очень хотелось потребовать объяснения - какие
слова на своем средиземноморском диалекте (она не понимала в нем ни звука,
так же как и он не понимал ее языка, но она не держалась так самоуверенно и
пренебрежительно), - какие именно слова он бросил вслед этому
благопристойному молодому немцу, этому хорошенькому маленькому буржуа из
уважаемой семьи и с влажным очажком, когда тот собирался подойти к ней
поближе?
Ганс Касторп, который был, как говорится, "влюблен по уши", но не в
радостном смысле этого слова, ибо это была любовь запретная, неразумная, о
ней не споешь мирной равнинной песенки, - Ганс Касторп, который был жестоко
влюблен и потому оказался зависимым, покорным, страдающим и подчиненным, все
же нашел в себе силы сохранить даже в рабстве известное лукавство и
догадался, что пленительно крадущаяся больная с прелестными щелками
татарских глаз, вероятно, дорожит и будет дорожить его преданностью:
ценность этой преданности, как он добавлял про себя, невзирая на свою
страдальческую покорность, ей, видимо, открылась из отношения к ней
Сеттембрини, ибо оно лишь подтверждало ее подозрения и было настолько
враждебным, насколько это допускала его гуманистическая вежливость. Плохо,
или, в глазах Ганса Касторпа, скорее, выгодно, для него самого было то, что
ее встречи с Нафтой, на которого она тоже возлагала надежды, обманули ее
ожидания. Правда, она не наталкивалась здесь на ту глубокую неприязнь, с
какой господин Лодовико относился к ее особе, да и беседовали они в более
благоприятных условиях: иногда Клавдии и этому миниатюрному человечку с
острыми чертами удавалось поговорить наедине о книгах, о проблемах
политической философии, в радикальных оценках которых они сходились. Ганс
Касторп с искренним интересом участвовал в их разговорах. Все же она,
вероятно, ощущала известную аристократическую сдержанность, с какой к ней
подходил этот выскочка, осторожный, как все выскочки его испанский
терроризм по сути дела трудно было сочетать с ее хлопающими дверями и ее
скитальческим "слишком человеческим" началом к этому примешивалась еще
какая-то легкая, трудно уловимая враждебность к ней обоих противников, и
Сеттембрини и Нафты своим женским чутьем она не могла не ощущать ее так же,
как ее ощущал карнавальный рыцарь Клавдии, а причиной являлось отношение их
обоих к нему, Гансу Касторпу: то была обычная неприязнь воспитателя к
женщине, как к элементу, который мешает и отвлекает воспитанника, и эта
немая исконная вражда объединяла их, а в ней растворялись и их сгущенные в
педагогических целях разногласия.
Не примешивалась ли эта же неприязнь и в отношение обоих диалектиков к
Пеперкорну? Как будто бы да, может быть так казалось Гансу Касторпу потому,
что, злорадствуя, он заранее этого ждал и даже жаждал свести царственного
заику с обоими своими "государственными советниками", как он их иногда
остроумно называл про себя, и, столкнув, посмотреть, что получится. Под
скрытым небом мингер не производил столь внушительного впечатления, как в
комнатах. Мягкая фетровая шляпа, которую он низко надвигал на лоб, закрывала
и белое пламя волос, и мощные складки на лбу, черты его как бы мельчали,
съеживались, и даже багровый нос утрачивал свое величие. Да и ходил
Пеперкорн менее торжественно, чем стоял: он делал коротенькие шажки, имел
обыкновение переваливаться с боку на бок всем своим грузным телом и даже
наклонять голову в сторону той ноги, на которую ступал, от чего в его фигуре
появлялось что-то старчески-добродушное, а отнюдь не царственное и шел он
чаще всего не выпрямившись, как обычно стоял, а слегка ссутулившись. Но и
так он был на целую голову выше господина Лодовико и тем более недомерка
Нафты и не только поэтому его присутствие с такой силой, с такой
исключительной силой, как и представлял себе заранее Ганс Касторп, угнетало
обоих политиков.
Это был особый гнет, порожденный сравнением, в результате которого они
чувствовали себя униженными и умаленными все это ощущал и лукавый
наблюдатель, и хилые сверхболтуны, и величественный заика. Пеперкорн
обращался с Нафтой и Сеттембрини безукоризненно учтиво и с таким вниманием и
почтением, которое Ганс Касторп принял бы за иронию, если бы не был глубоко
убежден, что понятие иронии несовместимо с представлением о человеке больших
масштабов. Царям ирония неведома, даже как откровенный и классический прием
ораторского искусства, уже не говоря о более сложных ее формах. Вот почему
обращение голландца с друзьями Ганса Касторпа можно было бы скорей назвать
тонко и величественно насмешливым, пряталось ли оно за преувеличенной
серьезностью или выражалось совершенно открыто.
- Да-да-да, - говорил он, грозя в их сторону пальцем и отворотив голову
с шутливо улыбавшимися разорванными губами. - Это... Эти... Господа, обращаю
ваше внимание... Cere rum*, мозговое, понимаете ли! Нет, нет, превосходно,
исключительно, то есть тут ведь все-таки вскрывается...
______________
* Мозг (лат.).
А они мстили тем, что обменивались взглядами, а потом, якобы в
отчаянье, возводили взоры к небу, пытаясь вызвать на это и Ганса Касторпа,
однако он уклонялся.
Случилось так, что Сеттембрини уже прямо привлек непокорного ученика к
ответу и выдал свои педагогические тревоги.
- Но, бога ради, инженер, ведь это же просто глупый старик! Что вы
нашли в нем? Разве он может содействовать вашему развитию? Отказываюсь
понимать вас! Все было бы ясно, хотя, может быть, и не похвально, если бы вы
мирились с ним и искали его общества только ради его теперешней
возлюбленной. Но ведь несомненно, что вы заняты им чуть ли не больше, чем
ею. Заклинаю вас, помогите же мне понять...
Ганс Касторп рассмеялся.
- Бесспорно, - сказал он. - Превосходно! Так оно и есть... Позвольте
мне... Хорошо! - Он попытался воспроизвести не только речь, но и
проработанные жесты Пеперкорна. - Да, да, - продолжал он смеясь. - Вы
находите, что это глупо, господин Сеттембрини, и можно подумать, что, в
ваших глазах, нет ничего хуже глупости. Ах, глупость! Ведь есть столько
различных видов глупости, и разумность - не лучший вид... Ага! Я, кажется,
сейчас сострил? Удачно? Вам нравится?
- Весьма. Я с нетерпеньем жду вашего первого сборника афоризмов. Может
быть, еще не поздно, и я попрошу вас вспомнить некоторые соображения о
человеконенавистнической сущности парадокса, которыми мы с вами как-то
обменялись.
- Непременно, господин Сеттембрини. Непременно вспомню, и я этой
остротой вовсе не гнался за парадоксами. Я хотел только указать на большие
сложности, которые возникают при определении понятий "глупости" и
"разумности". Ведь возникают? Верно? Их так трудно отделить одно от другого,
они так легко переходят друг в друга... Знаю, вы терпеть не можете
мистического guazza uglio, вы стоите за ценности, за суждение, за оценку, и
тут вы совершенно правы. Но где "глупость" и где "разумность" - это иногда
совершеннейшая тайна, а ведь разрешается же интересоваться тайнами, при
наличии честного стремления по возможности глубже проникнуть в их сущность.
Я спрашиваю вас об одном: я спрашиваю - можете вы отрицать, что он всех нас
заткнул за пояс? Я выражаюсь грубо, и все-таки, насколько я понимаю, вы не
можете этого отрицать. Он заткнул нас за пояс, и что-то дает ему право
смеялся над нами. Почему? Как? В каком смысле? Уж конечно не на основании
своей разумности. Ведь он скорее путаник, человек чувства, чувство - это как
раз его пунктик, простите мне ходячее выражение! Итак, я говорю: не своей
разумностью заткнул он нас за пояс, то есть не по причине высокого ума, - вы
первый возмутились бы при таком утверждении, и это исключено. Но и не по
причинам физического порядка! Не из-за капитанских плеч и сильных мышц, не
потому, что он мог бы свалить каждого из нас ударом кулака, - ему и в голову
не приходит, что он мог бы это сделать, а если когда-нибудь придет, то
достаточно двух-трех вежливых слов, чтобы успокоить его... Следовательно,
тут и не физические причины. И все-таки физическая сторона здесь,
несомненно, играет роль - не в смысле грубой силы, а в другом, в мистическом
смысле, - ведь как только телесное начало начинает играть роль, мы имеем
дело с мистикой, - физическое переходит в духовное, и наоборот, их тогда не
отличишь, как не отличишь глупость от разумности, но воздействие налицо, это
момент динамический, и нас затыкают за пояс. Для обозначения этого у нас
есть только одно слово - индивидуальность. Его употребляют очень широко, все
мы индивидуальности - в моральном, юридическом и во всяких иных смыслах Но в
данном случае надо это слово понимать иначе, - как тайну, которая выше
глупости и разумности, и которой мы все же имеем право интересоваться -
отчасти, чтобы по возможности глубже проникнуть в ее сущность, и если
проникнуть невозможно, то хотя бы на этом поучиться. А если вы за ценности,
то индивидуальность тоже положительная ценность, как мне кажется, - более
положительная, чем глупость и разумность, - в высшей степени положительная,
абсолютно положительная, как сама жизнь, - словом, это одна из жизненных
ценностей и вполне заслуживает того, чтобы ею интересоваться Вот что я
считал необходимым возразить на ваши слова относительно глупости.
За последнее время Ганс Касторп уже не путался и не сбивался, когда
приходилось выкладывать то, что было на душе, не застревал посредине фразы.
Он договаривал все до конца, понижал голос, соблюдал точку и продолжал
говорить как настоящий мужчина, хотя все-таки краснел и немного боялся того
критического молчания, которое последует за его словами, чтобы устыдить его.




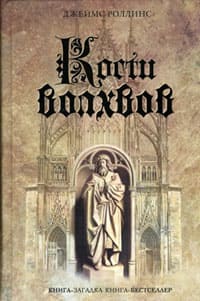

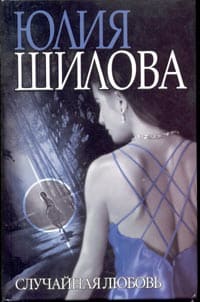 Шилова Юлия
Шилова Юлия Посняков Андрей
Посняков Андрей Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Флинт Эрик
Флинт Эрик Зыков Виталий
Зыков Виталий Соломатина Татьяна
Соломатина Татьяна