поздней ночи. Вскоре он уже не боялся нарушить покой спящего дома, как это
было вначале, ибо оказалось, что эта призрачная музыка слышна лишь на очень
недалеком расстоянии. Как ни изумительны были ее звуковые колебания вблизи
от их источника, вдали они очень скоро тускнели, становились слабыми и
теряли силу реальности, как и все призрачное. Ганс Касторп, в четырех стенах
этой комнаты, оставался наедине с чудесами волшебной шкатулки, с шедеврами
композиции и исполнительского мастерства, скрытыми в этом усеченном гробике
из скрипичного дерева, в этом матово-черном маленьком храме, перед
раздвинутой двустворчатой дверцей которого он сидел в кресле, сложив руки,
склонив голову на плечо, приоткрыв рот и отдаваясь заливавшему его потоку
благозвучий.
Этих певцов и певиц он не видел, ибо их человеческая плоть находилась в
Америке, в Милане, в Вене, в Санкт-Петербурге. Ну и пусть себе там
находятся, - ведь он получал лучшее, что в них было - их голос и он ценил
эти как бы очищенные, абстрагированные голоса, остававшиеся все же в
достаточной мере чувственными, чтобы, поскольку дело касалось хотя бы его
соотечественников немцев, дать ему возможность, исключив все невыгоды личной
близости, по-настоящему, по-человечески оценить их качества. Он различал
выговор певцов, диалект, позволявший точнее определить, из какой они
местности, характер голоса, говоривший об эмоциональном уровне каждого из
них, а по тому, как они использовали возможности духовного воздействия на
слушателей или, наоборот, не использовали, можно было судить о степени их
интеллигентности. И Ганс Касторп сердился, когда они пренебрегали этими
возможностями. Он страдал от стыда и кусал себе губы, если открывал
недостатки в технике исполнения, сидел точно на иголках, когда в особенно
популярной песне какая-нибудь нота звучала резко или крикливо, что особенно
часто случалось с неустойчивыми женскими голосами. Но он с этим мирился, ибо
любви суждено страдать. Иногда он склонялся над вращавшимся и дышавшим
механизмом, словно то был куст сирени, опустив голову в облако звуков, или
становился перед раскрытой волшебной шкатулкой, разделяя блаженную власть с
дирижером, и, подняв руку, в нужный миг подавал знак трубе, что ей пора
вступать. В этом собрании музыкальных произведений у него были свои любимцы,
и некоторые вокальные и инструментальные номера он готов был слушать без
конца. Мы не можем не назвать их.
Небольшая серия пластинок воспроизводила заключительные сцены оперы,
пышной, насыщенной гением мелодики она была написана по заказу некоего
восточного государя прославленным соотечественником Сеттембрини, одним из
родоначальников драматической музыки юга, во второй половине прошлого века,
по столь торжественному случаю, как передача человечеству некоего достижения
техники{426}, способствующей сближению между народами. Ганс Касторп, будучи
человеком образованным, знал сюжет оперы и в общих чертах был знаком с
судьбой Радамеса, Амнерис и Аиды, певших ему по-итальянски из шкатулки
поэтому он более или менее понимал, что они поют - этот несравненный тенор,
это царственное контральто с роскошными модуляциями в середине диапазона и
серебряное сопрано, - понимал, конечно, не каждое слово, а кое-что, то там,
то здесь, благодаря своему знанию фабулы, своим симпатиям к данной ситуации
и тайному сочувствию героям, которое, чем чаще он ставил эти четыре-пять
пластинок, тем все более росло и постепенно превратилось в настоящую
влюбленность.
Сначала происходило объяснение между Радамесом и Амнерис: царская дочь
приказывала привести к ней закованного в цепи Радамеса, ибо она любила его и
горячо жаждала спасти для себя, хотя он, ради рабыни из варварской страны,
пожертвовал родиной и честью впрочем, по его словам, "в глубинах сердца
честь осталась незадетой". Однако эта незатронутость самого сокровенного,
при всей тяжести его вины, мало помогла ему, преступление его было столь
явным, что он подлежал духовному суду, а этому суду все человеческое чуждо,
и уж конечно судьи не станут церемониться, если виновный в последнюю минуту
не одумается и, отрекшись от рабыни, не бросится в объятия великолепного
контральто с роскошными переходами, которое, с точки зрения акустической,
вполне этого заслужило. Амнерис прилагала самые пылкие старания, чтобы
уговорить изливавшего благозвучия, но трагически ослепленного и
разочарованного в жизни тенора, твердившего в ответ ей лишь одно: "Не в
силах я" и "Напрасно все", - когда она в отчаянии молила его отказаться от
рабыни, ибо для него - это вопрос жизни. "Не в силах я"...
"Молю тебя, послушай, откажись".
"Напрасно все".
Самоубийственное ослепление и жгучее страдание любви сливаются в дуэт,
необычайно прекрасный, но не оставляющий никакой надежды. И вот Амнерис
сопровождает своими скорбными возгласами зловещие ритуальные формулы
духовного суда, они глухо звучат откуда-то из глубины, и злосчастный Радамес
оставляет их без ответа.
"Радамес, Радамес", - настойчиво взывает опять верховный жрец и с
беспощадной суровостью раскрывает его предательство.
"Оправдайся!" - потребовали хором все жрецы.
И так как их глава сослался на то, что Радамес молчит, все единодушно
признали его виновным в измене.
"Радамес, Радамес! - снова начинает председательствующий. - Ты смел
оставить лагерь перед боем!"
"Оправдайся!" - воскликнули они снова.
"Смотрите, он молчит", - вторично установил сильно предубежденный
против него верховный судья, поэтому все судьи во второй раз присоединили
свои голоса к его голосу и закричали: "Измена!"
"Радамес, Радамес, - зазвучал в третий раз голос неумолимого
обвинителя. - Отечество, царя и честь ты предал!"
"Оправдайся!" - прогремело снова.
"Измена!" - окончательно решили, содрогаясь, жрецы, после того как их
внимание было обращено на полное молчание Радамеса. Поэтому неотвратимое
неотвратимо свершилось, и хор, по-прежнему единогласно, вынес приговор
преступнику и заявил: его участь решена, он умрет позорной смертью
преданного проклятию, живым сойдет он в могилу под храмом разгневанного
божества.
Вообразить себе негодование Амнерис по поводу этой поповской жестокости
предоставлялось самому Гансу Касторпу, ибо здесь пластинка кончалась. Надо
было ее менять, что он и делал тихими, точными движениями и как бы опустив
глаза, а когда снова усаживался в кресло, звучала уже последняя сцена
мелодрамы: заключительный дуэт Радамеса и Аиды звучал уже из могилы, из
глубин подземелья, а над их головами ханжи-священники совершали в храме
обряд и, простирая руки, усердно что-то бормотали. "Tu - i que ta tom a?!"*
- гремел невыразимо обаятельный, сладостный и вместе с тем мужественный
голос Радамеса. Да, она проникла сюда, эта возлюбленная, ради которой он
пожертвовал жизнью и честью, она здесь ждала его, дала себя вместе с ним
запереть, чтобы вместе встретить смерть. Они пели, то обращаясь друг к
другу, то сливая свои голоса, а по временам их прерывал глухой гул священной
церемонии в верхнем этаже именно эта пара волновала до глубины души
одинокого ночного слушателя - и особенности их истории, и ее музыкальное
воплощение. В их ариях говорилось о небе, они сами были божественны и
божественно исполняли их. Линия мелодии, которую сначала порознь, а потом
вместе неутомимо повторяли их голоса, эта простая и блаженная кривая,
построенная на тонике и доминате, протяжно восходила от основного тона к
октаве, но за полтона от нее, лишь слегка ее коснувшись, переходила в квинту
и казалась одинокому любителю самым просветленным, самым восхитительным из
всего, что он когда-либо слышал. Все же он не так влюбился бы в эти звуки,
если бы не вызвавшая их к жизни ситуация, делавшая его сердце особенно
восприимчивым к ее сладостному очарованию. Ведь как это прекрасно, что Аида
пришла к обреченному Радамесу и пожелала навеки разделить с ним в могиле его
судьбу! Осужденный правильно сделал, что не хотел принять принесенной в
жертву цветущей жизни, но в его ответе, полном нежности и отчаяния: "No, o!
tro o ei ella!"** - все же чувствовался восторг окончательного соединения
с той, которой он уже никогда не надеялся увидеть и чтобы пережить вместе с
ним этот восторг и эту благодарность, воображению Ганса Касторпа не нужно
было делать особых усилий. Однако, когда он, сложив руки, смотрел на
маленькие черные жалюзи между планками, среди которых все это расцветало,
сильнее всего он чувствовал и постигал всепобеждающую идеальность музыки,
искусства, человеческой души, и его больше всего радовала их высокая и
неотразимая красота, которая облагораживала низменные и отвратительные
явления действительности. Ведь достаточно было посмотреть трезвым взглядом
на то, что здесь совершалось: двум заживо погребенным созданиям предстояло,
задыхаясь в духоте могилы, умереть от мук голода вместе или, что еще хуже,
одному за другим, а затем над их телами разложение должно было начать свое
невыразимое дело, пока под сводами не останутся два скелета, и каждый из них
будет совершенно равнодушен и нечувствителен к тому, лежит ли он один, или
вдвоем. Такова была реальная, фактическая сторона событий - особая их
сторона, особое свойство, но эту сторону идеализм сердца вообще не принимал
в расчет, а дух музыки и красоты победоносно отодвигал в тень. Для оперных
душ Радамеса и Аиды реально предстоявшей им участи просто не существовало.
Их голоса взлетали в унисон к блаженному звучанию октавы, уверяя, что теперь
им открылись небеса и их любовное томление озарено светом вечности. Сила
этого приукрашиванья действовала на слушателя крайне благотворно, утешала
его и способствовала тому, что этот номер его постоянной программы стал ему
особенно дорог.
______________
* Ты - в этой могиле?! (итал.).
** Нет, нет, ты слишком прекрасна! (итал.).
Обычно он отдыхал от его ужасов и просветления, слушая короткую пьесу,
тоже насыщенную прелестью и гораздо более мирную по своему содержанию, чем
первая это была идиллия, но идиллия рафинированная, автор построил ее и
живописал с помощью скупых и вместе с тем осложненных приемов новейшего
искусства, чисто оркестровая вещь, без пения, симфоническая прелюдия,
написанная французом{430} она исполнялась сравнительно небольшим по



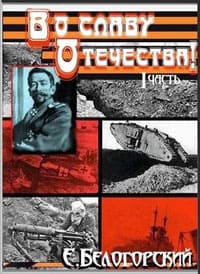


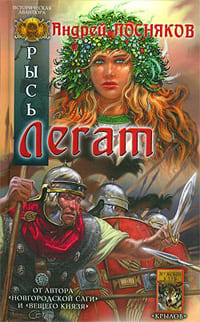 Посняков Андрей
Посняков Андрей Каргалов Вадим
Каргалов Вадим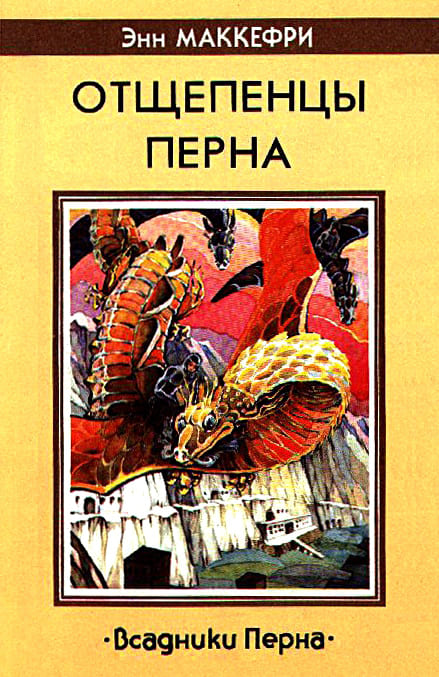 Маккефри Энн
Маккефри Энн Корнев Павел
Корнев Павел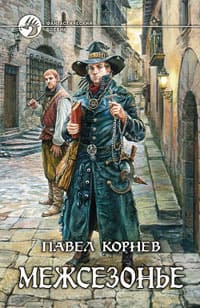 Корнев Павел
Корнев Павел Корнев Павел
Корнев Павел