соответствующее время не явится на суд, и его дальнейшее преследование по
суду, ввиду того что он австрийский подданный, будет не только
затруднительным, но просто невозможным
2) Судебное наказание г-на Яполя за оскорбление и клевету, с помощью
которых г-н Яполь хотел очернить и опозорить доброе имя и супружество г-на
Станислава фон Жутавского и его супруги Ядвиги, не может смыть нанесенного
им оскорбления -
г-н Станислав фон Жутавский, узнав от третьих лиц, что г-н Казимир
Яполь намерен на следующий же день покинуть здешние места, избрал, по его
убеждению, самый прямой и соответствующий данным обстоятельствам путь и 2
апреля 19... года между 7.30 и 7.45 вечера в присутствии своей супруги
Ядвиги и гг. Михаила Лодыговского и Игнатия фон Меллина дал г-ну Казимиру
Яполю, пившему алкогольные напитки в баре здешнего курзала в обществе г-на
Януша-Теофиля Ленарта и двух незнакомых девиц, несколько пощечин.
Сейчас же вслед за этим пощечину г-ну Казимиру Яполю дал г-н Михаил
Лодыговский, пояснив, что сделал это за нанесенное девице Крыловой и ему
тяжелое оскорбление.
Затем г-н Михаил Лодыговский немедленно дал пощечину г-ну Янушу-Теофилю
за причиненную г-ну и г-же Жутавским нестерпимую обиду, после чего г-н
Станислав Жутавский, не теряя ни минуты, вторично и несколько раз подряд
отхлестал по щекам г-на Теофиля Ленарта за то, что тот очернил и оклеветал
его супругу, а также девицу Крылову.
Гг. Казимир Яполь и Януш-Теофиль Ленарт вели себя во время указанных
действий вполне пассивно. (Следует дата и подписи):
Михаил Лодыговский,
Игн. фон Меллин".
Раньше Ганс Касторп посмеялся бы над этим беглым огнем официальных
пощечин, но сейчас внутренние причины помешали ему. Узнав о безупречном
соблюдении кодекса чести, с одной стороны, и о позорной и вялой реакции на
бесчестие, с другой, - а это становилось совершенно ясным из чтения
протоколов, - он был глубоко взволнован хоть и далекой от жизни, но
поразительной противоположностью в поведении противников. То же самое
испытывали и остальные. Повсюду читались материалы об этом деле чести, и
люди страстно и упрямо спорили о нем. Несколько отрезвляюще подействовала
контрлистовка Казимира Яполя о том, будто бы фон Жутавскому было известно
совершенно точно, что некогда во Львове несколько пресыщенных фатов объявили
Яполя неспособным давать удовлетворение, и все незамедлительные и энергичные
действия Жутавского - сплошная комедия, так как он знал заранее, что драться
на дуэли ему не придется. И в суд Жутавский не подал только потому, что и
всем и ему было отлично известно, какой коллекцией рогов его супруга Ядвига
украсила голову супруга, чему он, Яполь, мог бы без труда представить
неопровержимые доказательства, да и все поведение девицы Крыловой, в случае
судебного разбирательства, не украсило бы ее чести. Кроме того,
подтвердилась только неспособность его, Яполя, дать удовлетворение, а не его
приятеля Ленарта, и фон Жутавский спрятался за первое, лишь бы не подвергать
себя опасности дуэли. О роли Азарапетьяна во всей этой истории он не желает
говорить. Что касается столкновения в баре, то он, Яполь, хоть и склонен к
шуткам и остер на язык, но здоровье у него плохое друзья Жутавского, а
также необычайно сильный Жутавский имели над ним большое физическое
преимущество, а обе дамочки, сидевшие с Яполем и Ленартом, - веселые особы,
но пугливы, как куры поэтому он, во избежание безобразной драки и
публичного скандала, уговорил Ленарта, который намерен был обороняться,
сохранять спокойствие и терпеть во имя божье легкие светские похлопывания
господ Жутавского и Лодыговского, не причинившие никакой боли и воспринятые
ими как дружеская шутка.
Таковы были оправдания Яполя, который, конечно, оказался в весьма
сомнительном положении. Его поправки могли лишь незначительно нарушить столь
картинный контраст между честью и бесчестием, возникавший из утверждения
противной стороны, тем более что Яполь не располагал той техникой
распространения соответствующих документов, как Жутавский и его партия, и
смог отпечатать на машинке лишь несколько экземпляров своих возражений. А
выше приведенные протоколы, как мы уже отмечали, получили все, даже
совершенно посторонние люди. Так, например, они оказались у Нафты и
Сеттембрини, - Ганс Касторп сам видел эти документы у них в руках и с
изумлением заметил, что и его наставники с ожесточенным и странным волнением
изучают их. А он-то ждал от Сеттембрини хотя бы веселой насмешки, на которую
сам, по своему душевному состоянию, не был способен. Но и на ясный ум
масона, видимо, повлияла наблюдаемая Гансом Касторпом всеобщая зараза, она
мешала ему рассмеяться и пробуждала в нем интерес к душевной сенсации,
вызванной этой историей с пощечинами кроме того, Сеттембрини, как человека,
живо связанного с действительностью, угнетало сознание, что, несмотря на
временно наступавшее обманчивое улучшение его здоровья, ему, в общем,
становилось все хуже он проклинал болезнь, угрюмо стыдился ее и презирал
себя, и все же она вынуждала его за последнее время через каждые два-три дня
прибегать к постельному режиму.
Не лучше чувствовал себя и Нафта, его сосед и противник. И в его
организме прогрессировала болезнь, послужившая физической причиной, или,
вернее, поводом, для того, чтобы его карьера, как члена иезуитского ордена,
столь преждевременно оборвалась даже в условиях горного разреженного
воздуха, в которых он жил, нельзя было предотвратить развитие недуга. Он
тоже проводил нередко целые дни в постели, и когда говорил, его надтреснутый
голос все чаще срывался, а говорил он при повышавшейся температуре еще
больше, становился все многословнее, резче и язвительнее. Но та борьба
против болезни и смерти, которую вел с помощью идей Сеттембрини, и его горе
оттого, что презренная природа побеждает, видимо, были чужды недомерку
Нафте, и ухудшение его физического состояния вызывало в нем не печаль, а
насмешливую воинственность и неудержимую страсть к спорам, жажду все ставить
под сомнение, все опровергать и отрицать, сбивая собеседника с толку, а это
непрестанно усиливало и без того тяжелую меланхолию итальянца. Со дня на
день обострялись их теоретические схватки. Конечно, даже Ганс Касторп мог
судить только о тех, которые происходили при нем. Но он был почти уверен,
что не пропустил ни одной, ибо его присутствие как педагогического объекта,
казалось, было необходимо для столь важных коллоквиумов. И если он не мог не
огорчать Сеттембрини, считая речи Нафты достойными того, чтобы их послушать,
все же он вынужден был признать, что Нафта уже не знает меры и подчас
переходит все границы здравого смысла.
У этого больного не хватало сил или доброй воли подняться над болезнью,
для него весь мир стоял под ее знаком, он видел все в ее мрачном свете. К
глубокому негодованию Сеттембрини, который охотно выгнал бы своего, жадно
внимавшего их спорам воспитанника из комнаты или заткнул бы ему уши, Нафта
заявил, что материя - слишком плохой материал, чтобы в нем воплощался дух.
Желать этого - чудовищная глупость. Ведь что мы видим в результате? Гримасу!
Что дало воплощение в жизнь идей хваленой французской революции?
Капиталистическое буржуазное государство - хорош подарок! А исправить это
надеются тем, что стараются сделать такую гадость универсальной. Всемирная
республика? Вот уж, можно сказать, счастье! Прогресс? Ах, это все тот же
знаменитый больной, который то и дело перевертывается с боку на бок,
надеясь, что от этого ему станет легче. Результатом же является никем не
высказываемое вслух, но тайно живущее во всех желание, чтобы началась война.
И она разразится, эта война, и это хорошо, хотя она повлечет за собой совсем
не то, о чем мечтают ее зачинщики. Нафта презирал буржуазное государство с
его гарантиями безопасности. Он воспользовался случаем и высказался на этот
счет однажды осенью, когда пациенты гуляли по главной улице местечка вдруг
начал накрапывать дождь, и все сразу, точно по команде, подняли над головой
раскрытые зонты. Нафта усмотрел в этом символ трусости и пошлой
изнеженности, порождаемых цивилизацией. Такое событие, как гибель парохода
"Титаник", является, конечно, грозным предостережением, и оно в силу нашего
атавизма нас страшит, но в нем есть что-то подлинно освежающее, заявил он. А
потом поднимают крик о необходимости сделать "пути сообщения" более
безопасными. И вообще, как только эта самая "безопасность" оказывается под
угрозой, все начинают возмущаться. Все это очень убого, и в своей
гуманистической дряблости отлично сочетается с волчьей свирепостью и
низостью, царящих на том экономическом поле битвы, каким является буржуазное
государство. Война! Он согласен на нее, и всеобщая жажда войны кажется ему,
в сравнении с этим, даже достойной уважения.
Но едва Сеттембрини упомянул, возражая ему, слово "справедливость" и
рекомендовал этот высокий принцип в виде предохранительного средства против
внутренних и внешних политических катастроф, как Нафта, который перед тем
утверждал, что дух слишком высок и его земное выражение не может и не должно
удаться, Нафта поставил под сомнение само это духовное начало и попытался
оклеветать его. Справедливость? Разве это понятие, достойное преклонения?
Разве оно божественное? Разве оно высочайшее? Да, бог и природа
несправедливы, у них есть свои любимцы, они расточают свои милости только по
выбору, одного выделяют опасной отмеченностью, другому даруют легкую,
обычную судьбу. А для человека с настойчивой волей справедливость - это, с
одной стороны, парализующая его слабость, обессиливающее сомнение, с другой
- фанфара, призывающая к решительным действиям. И так как человеку, чтобы не
нарушать морали, неизменно приходится подменять "справедливость" в одном
смысле "справедливостью" в другом смысле, где же тогда безусловность и
радикальность этого понятия? Да ведь и люди бывают обычно "справедливы" в
отношении либо одной точки зрения, либо другой. А все прочее - либерализм, и
в наши дни никого на эту удочку не поймаешь. Справедливость - это, конечно,
только словесная шелуха, обычная для буржуазной риторики, и, чтобы
действовать, нужно прежде всего знать, какую справедливость имеешь в виду:
ту, которая хочет отдать каждому принадлежащее ему, или ту, которая хочет
дать всем одно и то же.
Из бесчисленных споров, когда Нафта старался сбить собеседника с толку,
мы привели для примера только один. Но еще хуже обстояло дело, едва он
начинал говорить о науке, в которую не верил. Нет, он не верит в нее,






 Шилова Юлия
Шилова Юлия Панов Вадим
Панов Вадим Контровский Владимир
Контровский Владимир Грабб Джеф
Грабб Джеф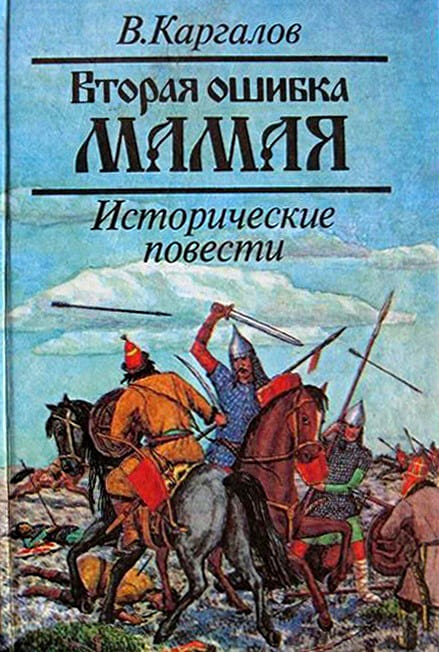 Каргалов Вадим
Каргалов Вадим Емилина Ника
Емилина Ника