свежим, с чистенькими облачками, ясным небом и нежарким солнцем, озарявшим
горные склоны и долины, которые снова зазеленели, как и полагается летом,
ибо выпавший снег был обречен на быстрое таяние.
Все, видимо, старались отдать дань воскресному дню и как-то выделить
его в этом стремлении и администрация и больные поддерживали друг друга. За
первым же завтраком был подан песочный пирог, возле каждого прибора стояла
вазочка с цветами - дикими горными гвоздиками и даже альпийскими розами,
причем мужчины тут же вдели себе по цветку в петлицу (на прокуроре Параванте
из Дортмунда был даже фрак и крапчатый жилет) дамские туалеты оказались
особенно нарядными и воздушными, мадам Шоша явилась к завтраку в свободном
кружевном матине с откидными рукавами и когда застекленная дверь, как
обычно, с треском захлопнулась за ней, она повернулась лицом к залу, как бы
грациозно представилась сидящим, а уже потом крадущейся походкой скользнула
к своему столу матине так удивительно шло ей, что учительница из
Кенигсберга сейчас же начала восторгаться. Даже варварская чета, сидевшая за
"плохим" русским столом, отдала дань божьему празднику, и супруг сменил
кожаную куртку на что-то вроде короткого сюртука, а теплые сапоги - на
кожаные ботинки правда, на шее у супруги болталось все то же грязноватое
боа из перьев, но под ним оказалась зеленая шелковая блузка с рюшем у
ворота. Увидев их обоих, Ганс Касторп насупился и покраснел, что здесь,
впрочем, случалось с ним весьма часто.
Сейчас же после второго завтрака на террасе зазвучала музыка, оркестр
состоял из медных и деревянных духовых инструментов и играл то бравурные, то
мечтательные пьесы до самого обеда. Во время концерта лежание на воздухе
было не обязательно. Правда, иные вкушали услады слуха, расположившись на
своих балконах, два-три шезлонга были заняты и в садовом павильоне, но
большинство больных сидело за белыми столиками на крытой галерее, а более
легкомысленная часть публики, решив, что стулья - это слишком почтенно,
расположились на каменных ступенях, которые вели в сад, и здесь царило
веселое оживление собрались молодые люди обоего пола - большинство из них
Ганс Касторп уже знал в лицо или по фамилии: Гермина Клеефельд и господин
Альбин, который пустил по кругу большую цветастую коробку шоколадных конфет
и всех угощал, но сам не ел, а, приняв покровительственный вид, курил
сигарету с золотым мундштуком затем губастый юнец из "Союза однолегочных"
фрейлейн Леви, худая девица с лицом цвета слоновой кости пепельный блондин
по фамилии Расмуссен, чьи вялые руки висели, словно плавники, на уровне
груди госпожа Заломон из Амстердама, одетая в красное платье, - пышнотелая
особа, тоже присоединившаяся к молодежи человек с редеющей шевелюрой,
который умел играть марш из "Сна в летнюю ночь", - он пристроился у нее за
спиной и сидел, охватив острые колени и не спуская мутных глаз с ее смуглого
затылка рыжеволосая барышня из Греции еще одна девица неизвестной
национальности с лицом тапира прожорливый подросток в толстых очках еще
один мальчик лет пятнадцати - шестнадцати, с моноклем, - когда он
покашливал, то подносил к губам мизинец с длиннейшим ногтем, похожим на
совок для соли, - явный осел, - и другие.
Этот мальчик с длинным ногтем, как начал шепотом рассказывать Иоахим,
был лишь слегка нездоров, когда приехал, температуры - никакой отец его,
врач, отправил сына сюда наверх только в целях профилактики, и, по
заключению гофрата, он должен был пробыть в санатории самое большее месяца
три. И вот теперь, через три месяца, у него температура поднимается до
37,8-38 и болезнь очень развилась. Правда, он ведет такой неразумный образ
жизни, что его следовало бы отхлестать по щекам.
Двоюродные братья сидели несколько в стороне, за отдельным столиком,
ибо Ганс Касторп курил, попивая черное пиво, которое он взял с собой из
столовой, и минутами ему даже казалось, что у сигары прежний вкус. Слегка
захмелев от пива и от музыки, действовавших на него как обычно, он сидел,
приоткрыв рот, склонив голову набок, и созерцал покрасневшими глазами
беззаботную курортную жизнь вокруг себя, причем сознание, что у всех этих
людей происходит внутри процесс разрушения, который так трудно остановить, и
у большинства легкий жар, не только не мешало, но придавало всему какое-то
своеобразие, даже обаяние. За столиками пили жемчужно пенившийся лимонад, а
на крыльце снимались. Иные обменивались почтовыми марками, рыжая барышня из
Греции рисовала в блокноте господина Расмуссена, сидевшего на большом камне,
но потом ни за что не хотела показать рисунок и, смеясь и открывая широко
расставленные зубы, вертелась туда и сюда, так что ему долго не удавалось
вырвать у нее блокнот. Гермина Клеефельд сидела на ступеньках и, полузакрыв
глаза, постукивала в такт музыке свернутой газетой, в то время как господин
Альбин старался приколоть к ее груди пучочек полевых цветов губастый
подросток, пристроившись у ног фрау Заломон, болтал, задрав к ней голову, а
лысеющий пианист не отрываясь продолжал смотреть на ее затылок.
Наконец к обществу пациентов присоединились и врачи, гофрат Беренс в
белом халате и доктор Кроковский - в черном. Они прошли вдоль столиков,
причем гофрат обращался почти к каждому с добродушной шуткой, и его путь
обозначился струей оживления затем они спустились к молодежи, женская часть
которой, ревниво поглядывая друг на друга и теснясь, тотчас обступила
доктора Кроковского, а гофрат в честь воскресного дня стал показывать
мужчинам фокус со шнурками на ботинках: он поставил свою ножищу на
ступеньку, распустил шнурки, взял их особым образом в одну руку и ухитрился
без помощи другой снова зашнуроваться крест-накрест так крепко, что все
дивились многие попытались проделать то же самое, но тщетно.
Позднее на террасе появился и Сеттембрини опираясь на горную палку,
вышел он из столовой, одетый все в тот же ворсистый сюртук и желтоватые
брюки лицо его, как обычно, выражало живой ум и скептическое лукавство он
посмотрел вокруг, устремился к столику, за которым сидели двоюродные братья,
воскликнул: "А, браво!" - и попросил разрешения подсесть к ним.
- Пиво, табак и музыка! - воскликнул он. - Вот ваше отечество! Я вижу,
инженер, что у вас есть вкус к национальному духу. Вы - в своей стихии, это
меня радует. Разрешите же и мне приобщиться к гармонии ваших чувств.
Ганс Касторп весь подобрался - он сделал это, едва завидев итальянца. И
сказал:
- Поздненько же вы приходите, господин Сеттембрини, концерт уже скоро
кончится. Разве вы не охотник послушать музыку?
- Я не люблю слушать ее ни по команде, ни по календарю, - отозвался
Сеттембрини. - Не люблю, когда от нее несет аптекой и она предписывается мне
сверху из санитарных соображений. Я, видите ли, все же дорожу той свободой и
теми остатками человеческого достоинства, которые у нас тут еще сохранились.
И при таких мероприятиях - я лишь гость, как вы гость здесь у нас, только в
более широком смысле забегаю на четверть часика, а потом иду опять своими
путями. Это дает мне иллюзию независимости... Разумеется, всего-навсего
иллюзию, но ничего не поделаешь, раз она доставляет известное
удовлетворение. Вот ваш кузен - другое дело. Для него хождение на музыку -
вроде службы. Не правда ли, лейтенант, вы видите в этом как бы часть своих
служебных обязанностей? О, я понимаю, вы знаете способ сохранять и в рабстве
свою гордость! Фокус, ошеломляющий фокус! Не каждый европеец способен
проделать его. Музыка? Вы, кажется, спросили меня - разве я не любитель
музыки? Ну, если вы говорите "любитель" (Ганс Касторп не помнил, чтобы он
употребил это слово), то термин выбран неплохо, в нем есть оттенок нежного
легкомыслия. Хорошо, согласен. Да, я любитель музыки, но из этого еще не
следует, что я ее особенно почитаю, как почитаю и люблю хотя бы слово, ибо
оно - носитель духа, орудие прогресса, блистательно взрыхляющий землю
плуг... А музыка... в ней есть что-то недосказанное, сомнительное,
безответственное, индифферентное. Вероятно, вы возразите мне, что в музыке
мажет быть и ясность. Но и природа может быть ясной, какой-нибудь там
ручеек... А разве нам от этого легче? Это же не подлинная ясность, а
какая-то туманная, ничего не говорящая, ни к чему не обязывающая, ясность
без последствий, и потому - опасная, ибо соблазняет нас на ней успокоиться.
Придайте музыке патетический характер. Допустим, что она воспламенит наши
чувства. Но ведь дело в том, чтобы воспламенить наш разум! Казалось бы,
музыка - само движение, но я все-таки подозреваю ее в квиетизме{158}.
Позвольте мне выразиться парадоксально: у меня политическая неприязнь к
музыке.
Тут Ганс Касторп не удержался и ударил себя по коленке - таких вещей он
еще в жизни своей не слыхивал.
- Все-таки подумайте об этом! - продолжал Сеттембрини. - Музыка
неоценима как величайшее средство воодушевления, как сила, которая влечет
нас ввысь и вперед, если дух уже подготовлен для ее воздействия. Но
литература, как видно, опередила ее. Сама по себе музыка не двинет мир
дальше. Сама по себе музыка - опасна. А лично для вас, инженер, она особенно
опасна. Я это сразу понял по вашему лицу, когда вошел.
Ганс Касторп рассмеялся:
- Ах, на мое лицо смотреть не следует, господин Сеттембрини. Вы не
поверите, как на меня влияет воздух у вас наверху. Акклиматизироваться мне
труднее, чем я думал.
- Боюсь, что вы ошибаетесь.
- Нет, нисколько! И черт его знает, почему я здесь все время чувствую
жар и усталость.
- А я нахожу, что за концерты мы все-таки должны быть благодарны
администрации, - рассудительно заметил Иоахим. - Вы подходите к вопросу о
музыке с более высокой точки зрения, господин Сеттембрини, ну, как писатель
и тут я с вами спорить не берусь. Но все же, по-моему, в данном случае надо
быть благодарным за то, что нам дают хоть немного музыки. Я сам далеко не
так уж музыкален, да и пьесы, которые здесь исполняются, не бог весть что,
не классическая и не современная музыка, а просто - духовая. И тем не менее
даже такая приятно разнообразит жизнь удачно заполняет несколько часов
делит их и заполняет каждый, - словом, вносит в них какое-то содержание, а
ведь здесь часы, дни и недели обычно пролетают попусту. Видите ли, такой
непритязательный концертный номер продолжается, скажем, минут семь, не
правда ли, и они что-то составляют для вас, у них есть конец и начало, они
выделяются из всего остального и по крайней мере не обречены потонуть в
безнадежной рутине здешней жизни. Кроме того, эти пьесы делятся на



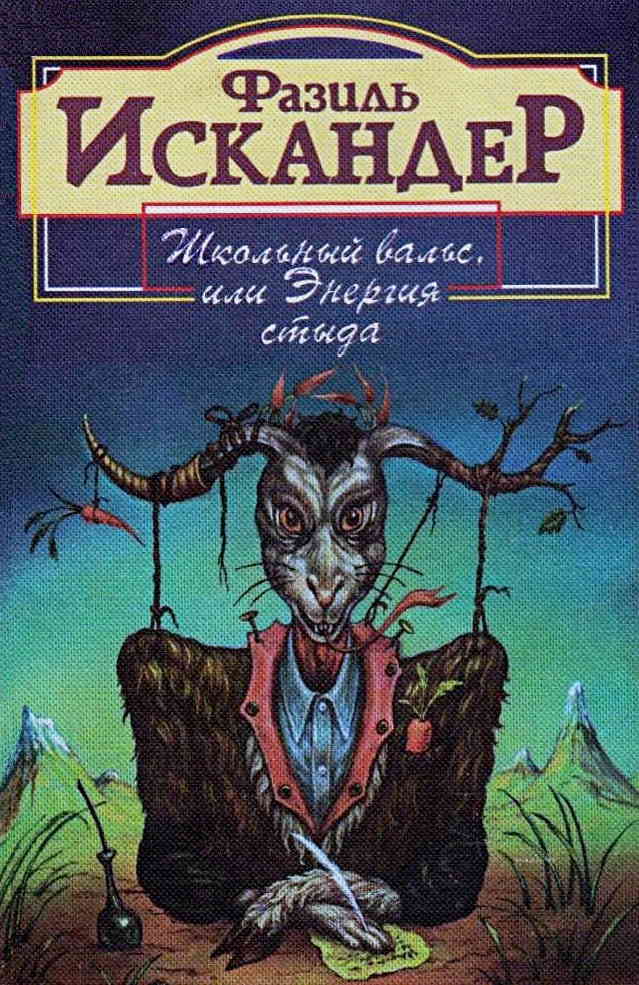


 Браун Дэн
Браун Дэн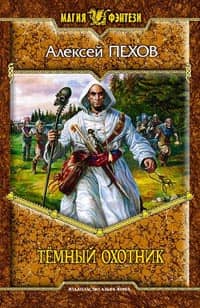 Пехов Алексей
Пехов Алексей Флинт Эрик
Флинт Эрик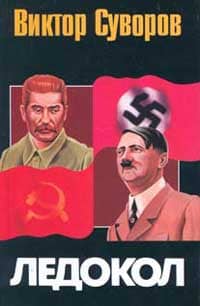 Суворов Виктор
Суворов Виктор Шилова Юлия
Шилова Юлия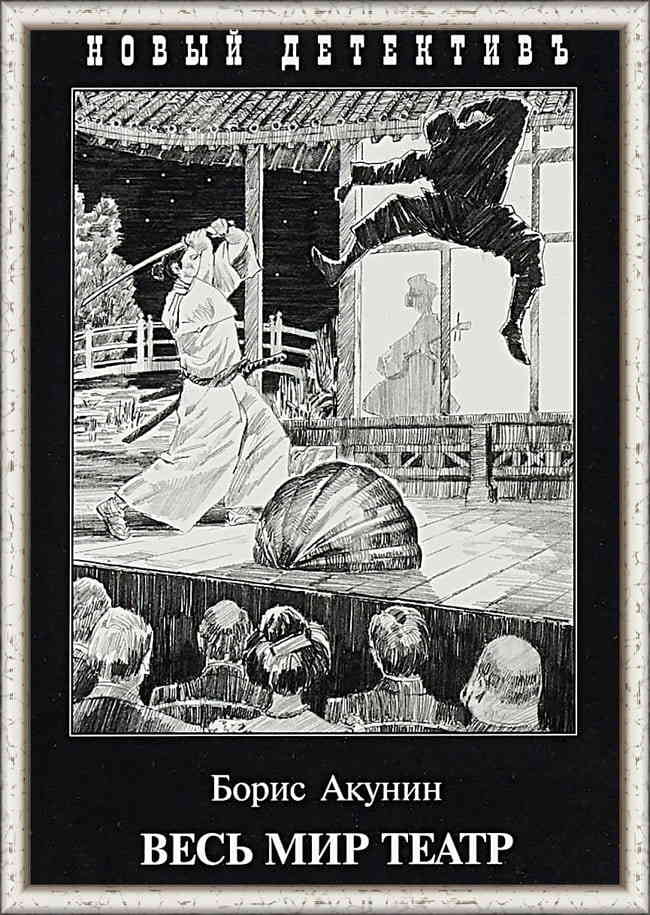 Акунин Борис
Акунин Борис