музыкальные фразы, а те в свою очередь на такты, все время что-нибудь да
происходит, и каждое мгновение приобретает какой-то смысл, за который можно
ухватиться, а ведь в обычное время... не знаю, сумел ли я выразить...
- Браво! - воскликнул Сеттембрини. - Браво, лейтенант, вы очень хорошо
подчеркнули моральный момент в сущности музыки, а именно то, что она с
помощью своеобразного живого биения, меры, придает бегу времени подлинность,
одухотворенность и ценность. Музыка пробуждает в нас чувство времени,
пробуждает способность утонченно наслаждаться временем, пробуждает... и в
этом отношении она моральна. Поскольку искусство пробуждает - оно морально.
Ну а что, если происходит как раз обратное? Если она оглушает, усыпляет,
противодействует активности и прогрессу? Ведь результат может быть и таков,
что музыка подействует как наркотик... А это - дьявольское действие,
милостивые государи. Этот наркотик от дьявола, ибо он вызывает отупение,
неподвижность, скованность, холопскую бездеятельность... Нет, господа, в
музыке есть что-то подозрительное. Я остаюсь при своем: у нее двусмысленная
природа. И я не преувеличиваю, когда утверждаю, что она политически
неблагонадежна.
Итальянец продолжал в том же духе, и Ганс Касторп слушал его, но не мог
следить внимательно за его мыслями: во-первых, он очень устал, во-вторых,
его отвлекало то, что происходило среди легкомысленной молодежи, сидевшей на
ступеньках. Глаза не обманывают его? Он не ошибся? Барышня с лицом тапира
усердно пришивала пуговицу к манжете спортивных брюк юнца с моноклем! При
этом из ее груди вырывалось тяжелое и жаркое астматическое дыхание, а он,
покашливая, подносил к губам свой ноготь, похожий на совок для соли. Они же
оба больны, говорил себе Ганс Касторп, и это показывает только, сколь
аморальны нравы, царящие здесь наверху среди молодых людей. Музыка играла
польку...
ХИППЕ
Так отмечалось воскресенье. Кроме того, во вторую половину дня пациенты
группами ездили кататься. После чая несколько запряженных парами экипажей,
протащившись по извилистой аллее, остановились перед главным входом, чтобы
посадить заказчиков: это были по большей части русские, главным образом -
дамы.
- Русские вечно ездят кататься, - сказал Иоахим Гансу Касторпу они как
раз стояли рядом против главного входа и, чтобы развлечься, наблюдали
отъезжающих.
- Поедут в Клавадель, или к озеру, или в Флюэлаталь, или в Клостерс.
Красивых мест очень много. Пока ты здесь, мы тоже могли бы как-нибудь
съездить, если хочешь. Но мне кажется, ты сейчас занят тем, что привыкаешь к
здешней жизни, и такие затеи тебе не нужны.
Ганс Касторп не возражал. Он стоял с сигаретой во рту, засунув руки в
карманы, и смотрел, как веселая маленькая русская старушка со своей тощей
внучатной племянницей и еще с двумя дамами усаживается в экипаж одна из дам
была Маруся, другая - мадам Шоша. Последняя облачилась в легкий пыльник с
хлястиком на спине, но шляпы не надела. Она уселась рядом со старушкой в
глубине экипажа, а молодые девушки - на переднем сидении. Все четыре были
очень веселы и непрерывно болтали на своем мягком, словно бескостном языке.
Они шутили по поводу верха этого экипажа, в котором с трудом расселись, по
поводу русских конфет в деревянной коробочке с бумажными кружевами -
двоюродная бабушка прихватила ее с собой в дорогу, но угощала конфетами уже
сейчас... И каждый раз, когда говорила мадам Шоша, Ганс Касторп безошибочно
различал среди прочих ее грудной голос. Как только он встречался с этой
столь небрежной особой, ему становилось все яснее то сходство, которое он
одно время искал и которое открылось ему потом во сне... Но Марусин смех, ее
круглые карие глаза, смотревшие совсем по-детски поверх прижатого к губам
носового платочка, и ее высокая грудь, где, должно быть, гнездилась тяжелая
болезнь, напомнили ему нечто другое, виденное им совсем недавно и потрясшее
его, поэтому он осторожно, не поворачивая головы, покосился на Иоахима. Нет,
слава богу, таких пятен на лице Иоахима, как в тот раз, не было, да и губы
не кривились жалобной усмешкой. Но он смотрел на Марусю, причем ни в его
позе, ни в выражении лица отнюдь не было ничего военного, а, напротив, во
всем облике сквозило такое уныние и горестное самозабвение, что его нельзя
было бы назвать иначе как человеком сугубо штатским. Впрочем, он тут же взял
себя в руки и бросил быстрый взгляд на Ганса Касторпа - тот едва успел
отвести глаза и устремить свой взор в пространство. При этом его сердце
усиленно забилось - по собственному почину и без всяких оснований, как оно
здесь билось уже не раз.
День закончился без дальнейших примечательных событий, за исключением,
быть может, обеда и ужина так как сделать трапезы еще обильнее, чем в
будни, кажется, уже было нельзя, то по воскресеньям кушанья отличались
особой изысканностью (за обедом было подано chaud-froid из кур с гарниром из
раковых шеек и вишен к мороженому - пирожное в сахарных корзиночках и в
заключение - свежие ананасы). Вечером, после пива, Ганс Касторп почувствовал
едва ли не большую усталость, озноб и тяжесть во всем теле, чем в
предшествующие дни, он простился с двоюродным братом, когда еще не было
девяти, торопливо натянул перинку до самого подбородка и заснул как убитый.
Однако уже следующий день, - это был первый понедельник, который гость
провел здесь наверху, - принес с собой еще одно планомерное отклонение от
дневного распорядка, а именно: лекцию доктора Кроковского, которые он читал
в столовой два раза в месяц для совершеннолетних больных, владеющих немецким
языком и не принадлежащих к числу обреченных смерти. Речь шла, как узнал
Ганс Касторп от своего кузена, о ряде связанных между собою докладов,
составлявших целый научно-популярный курс под названием "Любовь как сила,
вызывающая заболевания". Это поучительное развлечение обычно имело место
после первого завтрака, и, как опять-таки подчеркнул Иоахим, присутствовать
на нем считалось обязательным или во всяком случае крайне желательным,
поэтому то обстоятельство, что Сеттембрини, владевший немецким языком лучше,
чем кто-либо в санатории, не только не посетил ни одной из этих лекций, но и
отзывался о них весьма пренебрежительно, считалось возмутительной дерзостью.
Что касается Ганса Касторпа, то он прежде всего из вежливости, а также
из нескрываемого любопытства решил пойти. Однако совершил перед тем нечто
нелепое и несуразное ему взбрело в голову на свой страх и риск отправиться в
одиночестве на далекую прогулку, и она, вопреки его ожиданиям, очень ему
повредила.
- Знаешь, что я тебе скажу? - были его первые слова, когда Иоахим утром
вошел к нему в комнату. - Я вижу, что так дальше продолжаться не может.
Хватит с меня горизонтального существования - тут и кровь может охладеть. У
тебя, конечно, другое дело, ты пациент, и я не намерен совращать тебя. Но я
решил сейчас же после завтрака сделать хорошую прогулку, если ты не
возражаешь, и пойти просто куда глаза глядят, в широкий мир. Возьму с собой
чего-нибудь перекусить, и тогда я ни от кого не буду зависеть. Вернусь домой
другим, вот увидишь.
- Хорошо, - ответил Иоахим, так как видел, что двоюродному брату этого
действительно хочется и он твердо решил осуществить свое желание. - Только
мой совет - не увлекайся. Здесь ведь не то, что дома. И потом не опоздай на
лекцию.
В действительности же не только причины физического порядка внушили
Гансу Касторпу его намерение. Ему казалось, что и жар в голове, и противный
вкус во рту, который он в "Берггофе" ощущал почти постоянно, и непонятное
сердцебиение вызваны не только процессом акклиматизации, а скорее такими
обстоятельствами, как возня русской четы, доносившаяся через стену,
разговоры глупой и больной фрау Штер за столом, рыхлый кашель австрийца,
ежедневно раздававшийся в коридорах, заявления господина Альбина,
распущенные нравы здешней больной молодежи, лицо Иоахима, когда он смотрел
на Марусю, и еще множеством таких же фактов. И он решил, что хорошо бы разок
вырваться из заколдованного круга санаторской жизни, подышать вольным
воздухом, сделать хороший моцион, чтобы почувствовать вечером усталость или
по крайней мере знать, откуда она взялась. И вот, когда Иоахим, словно на
службу, отправился после завтрака на "увеселительную прогулку" до скамейки у
водостока, Ганс Касторп распрощался с ним и, помахивая горной палкой,
самостоятельно зашагал вниз по дороге.
Утро было прохладное, пасмурное, время - около половины девятого. Ганс
Касторп, как и наметил себе, глубоко вдыхал чистый воздух раннего утра,
свежий и легкий этот воздух входил в человека свободно, в нем не было ни
влаги, ни содержания, он ни о чем не напоминал... Молодой человек перешел
через горный ручей и через полотно узкоколейки, выбрался на неравномерно
застроенную улицу и снова свернул с нее на луговую тропинку, которая
тянулась сначала по ровной местности, а затем наискось и довольно круто
поднималась по правому склону. Восхождение было Гансу Касторпу приятно,
ширилась грудь, загнутым концом горной палки он сдвинул шляпу на затылок, а
когда, достигнув некоторой высоты, посмотрел назад и увидел вдали зеркальную
поверхность озера, мимо которого проезжал по пути сюда, он запел.
Ганс Касторп пел все, что приходило ему на память, всякие
чувствительные популярные песенки, какие можно найти в студенческих и
спортивных песенниках, и среди них одну, где были следующие строки:
Воспойте же вино, любовь,
Но чаще - добродетель...
Сначала он мурлыкал себе под нос, потом стал петь все громче и наконец
во весь голос. Баритон у него был жидковатый, но сегодня собственный голос
показался ему красивым и звучным, и пение все больше воодушевляло его.
Высокие ноты он брал фальцетом, но даже фальцет казался ему красивым. Когда
память изменяла ему, он пел на знакомый мотив первые попавшиеся
бессмысленные слоги и слова, подражая профессиональным певцам, картинно
округлял рот и с эффектным рокотаньем бросал в пространство букву "р" в
конце концов Ганс Касторп перешел на чистую импровизацию и мелодий и текста,


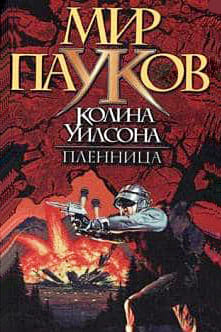


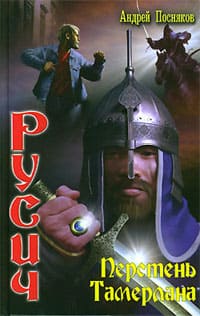
 Лондон Джек
Лондон Джек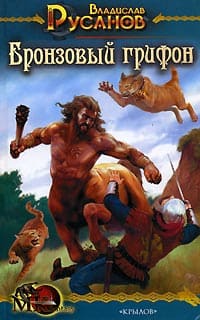 Русанов Владислав
Русанов Владислав Майер Стефани
Майер Стефани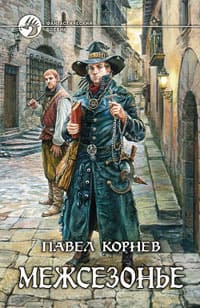 Корнев Павел
Корнев Павел Херберт Фрэнк
Херберт Фрэнк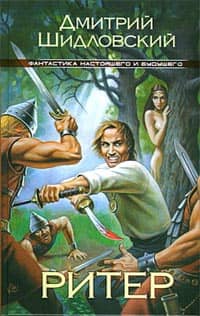 Шидловский Дмитрий
Шидловский Дмитрий