близости и телесной воплощенности, когда они разговаривали во дворе,
некоторое время продержался на переднем плане, а затем снова начал отступать
и без боли прощания опять исчез в тумане.
Но та минута, то опасное и волнующее положение, в которое себя поставил
Ганс Касторп, разговор, реальный разговор с Пшибыславом Хиппе - все это
возникло следующим образом: предстоял урок рисования, а Ганс Касторп вдруг
обнаружил, что забыл дома карандаш. Всем его одноклассникам их карандаши
были нужны однако у него были знакомые мальчики в других классах, и он мог
бы попросить карандаш у них. Но в глазах Ганса Касторпа Пшибыслав был самым
близким знакомым - ближайшим, так глубоко он уже общался с ним в тайниках
своего сердца и вот, почувствовав какой-то радостный подъем, он решил
воспользоваться удобным случаем - он назвал это про себя удобным случаем - и
попросить у Пшибыслава карандаш. Что такая просьба будет выглядеть довольно
странно - ведь он с Хиппе все-таки незнаком, - этого мальчик не сообразил
или махнул на это рукой, так он был захвачен и ослеплен каким-то неожиданно
нахлынувшим на него бесшабашным настроением. И вот на вымощенном красным
кирпичом дворе, среди школьной толчеи, он действительно остановился перед
Пшибыславом Хиппе и сказал:
- Извини, пожалуйста, ты не можешь одолжить мне карандаш?
И Пшибыслав посмотрел на него своими киргизскими глазами над
выступающими скулами и ответил приятно-хрипловатым голосом, ничуть не
удивившись или не выказав никакого удивления:
- С удовольствием. Только после урока непременно верни. - И он достал
из кармана свой карандаш - тоненькую посеребренную гильзу с колечком,
которое достаточно было передвинуть кверху, и тогда из металлического
футляра показывался заостренный цветной грифелек. Он стал объяснять
несложный механизм карандаша, и их головы сблизились.
- Только смотри не сломай! - добавил Хиппе.
К чему эти предупреждения? Разве Ганс Касторп мог не вернуть карандаш
или допустить в обращении с ним малейшую небрежность?
Потом они, улыбаясь, посмотрели друг на друга и, так как говорить
больше было не о чем, повернулись друг к другу сначала боком, потом спиной и
разошлись в разные стороны.
И все. Но ни разу еще в своей жизни Ганс Касторп не испытывал такого
удовольствия, как на этом уроке рисования, - ведь он рисовал карандашом
Пшибыслава Хиппе, да еще предстояло потом снова возвратить карандаш
владельцу, этот возврат, как нечто само собой разумеющееся, совершенно
естественно вытекал из того факта, что карандаш был дан. Ганс Касторп даже
позволил себе небольшую вольность слегка очинить карандаш, а потом, подобрав
три-четыре красных лакированных стружки, хранил их чуть не целый год во
внутреннем ящике своей парты, и если бы кто их увидел, никому и в голову бы
не пришло, что они ему дороги. Впрочем, возврат карандаша совершился очень
просто, вполне во вкусе Ганса Касторпа, да он ни к чему иному и не
стремился: привычка к тайному и безмолвному общению с Хиппе притупила в нем
желание разговаривать с ним вслух.
- Вот, - сказал он. - Большое спасибо.
А Пшибыслав ничего не сказал, он лишь бегло проверил механизм, затем
сунул карандаш в карман...
После этого случая они больше ни разу друг с другом не беседовали, но
благодаря предприимчивости Ганса Касторпа в тот единственный раз это все же
случилось.
Он широко раскрыл глаза, ошеломленный столь глубоким уходом в прошлое.
"Кажется, я грезил! - подумал он. - Да, это был Пшибыслав. Давно уж я не
вспоминал о нем. А куда же делись те стружки? Парта так и осталась на
чердаке, в доме дяди Тинапеля. Они, наверно, до сих пор лежат в заднем
маленьком ящике слева. Я их спрятал, не вынимал и был к ним настолько
невнимателен, что даже не выбросил их... А она - в точности Пшибыслав, прямо
как живой. Вот уж не думал, что увижу его опять так отчетливо. До чего же он
похож на нее, на эту здесь, в санатории! Вот, значит, почему она меня так
интересует? А может быть, и другое - я потому так интересовался им? Вздор!
Ужасный вздор! Впрочем, мне пора идти, и как можно скорее". Но он продолжал
лежать, раздумывая и вспоминая.
Затем поднялся. "А теперь - счастливо и большое спасибо", - проговорил
он, и слезы выступили у него на глазах, хотя он улыбался. Ганс Касторп решил
идти, но вдруг быстро опустился на скамейку, уже держа в руках шляпу и
горную палку: он с изумлением обнаружил, что ноги у него подгибаются.
"Гопля! - подумал он - Кажется, дело плохо! А я должен быть ровно в
одиннадцать на лекции. Прогулки в горы, конечно, хороши, но, видимо, в них
есть и свои трудности. Да, да, а все же медлить здесь нечего. От лежанья у
меня, наверно, слегка онемели ноги на ходу это пройдет". Он опять попытался
встать, и так как сделал решительное усилие над собой - дело пошло на лад.
Во всяком случае, его возвращение было довольно плачевным, особенно
после столь вдохновенного начала. То и дело приходилось останавливаться,
чтобы передохнуть, ибо он чувствовал, как лицо его вдруг бледнеет, на лбу
выступает холодный пот, а от беспорядочного сердцебиения он задыхается. Так
спускался он с трудом по извилистым дорожкам когда же достиг долины
неподалеку от курзала, то увидел со всей ясностью, что собственными силами
ему до "Берггофа" не добраться, ведь идти еще далеко, и так как трамвай туда
не ходил и ни один наемный экипаж не показывался, он попросил какого-то
возчика, который вез пустые ящики в сторону деревни, посадить его. И вот он
ехал, сидя спина к спине с возчиком, свесив ноги, и замечал, что пешеходы с
участливым удивлением поглядывают на него, а он сонно покачивается и кивает
головой от толчков подводы затем он сошел у переезда через полотно
узкоколейки, сунул возчику деньги, не видя, много или мало дает ему, и
торопливо стал подниматься по подъездной аллее.
- De echez-vou , mo ieur!* - сказал француз-привратник. - La
co fere ce de mo ieur Krokow ki vie t de comme cer**.
______________
* Торопитесь, сударь! (франц.).
** Лекция господина Кроковского только что началась (франц.).
Ганс Касторп забросил шляпу и палку в гардероб и, прикусив язык,
торопливо и осторожно протиснулся через чуть приоткрытую стеклянную дверь в
столовую, где все население санатория сидело на стульях, поставленных
рядами, а у накрытого скатертью поперечного стола, на который был водружен
графин с водой, стоял доктор Кроковский в длинном сюртуке и говорил...
ПСИХОАНАЛИЗ
К счастью, в уголке у самой двери оказалось свободное место. Он
пробрался к нему сторонкой, сел и сделал вид, что сидит здесь уже давно.
Публика, с вниманием первых минут не отрывавшая глаз от доктора Кроковского,
вероятно даже не заметила, как Ганс Касторп вошел, - и хорошо сделала, ибо
выглядел он ужасно. Он был бледен как полотно, костюм испачкан кровью,
словно он только что совершил убийство. Правда, когда он опустился на стул,
дама, сидевшая впереди, повернула голову и внимательно посмотрела на него
своими узкими глазами. Это была мадам Шоша. Он узнал ее не без горечи. Вот
черт! Неужели ему так и не дадут покоя? Он надеялся наконец, добравшись до
места, хоть немного отдохнуть, а теперь она будет все время торчать у него
перед носом, - случайность, которой он, может быть, при других
обстоятельствах даже обрадовался бы но сейчас, когда он так утомлен и
измотан, - зачем это ему? Только лишние волнения для сердца! В течение всей
лекции ее соседство будет держать его в напряжении. Она ведь посмотрела на
него в точности глазами Пшибыслава, - сначала на лицо, затем на пятна крови,
притом довольно бесцеремонно и навязчиво, как и можно было ждать от особы,
которая хлопает дверью. Какие у нее дурные манеры! Не так держались женщины
в привычных для Ганса Касторпа кругах общества, они сидели прямо, словно
аршин проглотили, и повертывали к соседу по столу только голову, а говорили
чуть шевеля губами. Мадам Шоша сидела ссутулившись, вяло опустив плечи" к
тому же вытянув вперед шею, так что шейные позвонки резко выступали над
вырезом белой блузки. Примерно так же держал голову и Пшибыслав но он был
образцовым учеником и пользовался почетом (хотя Ганс Касторп когда-то
попросил у него карандаш вовсе не поэтому), а тут было совершенно ясно, что
небрежные манеры мадам Шоша, хлопанье дверями и бесцеремонный взгляд - все
это связано с ее болезнью да и та несдержанность и те отнюдь не почтенные,
но почти неограниченные преимущества, которыми хвастался господин Альбин, -
все это результат болезни.
Ганс Касторп смотрел на поникшую спину мадам Шоша, и его мысли начали
путаться, они перестали быть мыслями и перешли в грезы, а тягучий баритон
доктора Кроковского, так мягко выделявший звук "р", словно аккомпанировал им
откуда-то издалека. Однако царившая в зале тишина и всеобщее глубокое и
напряженное внимание подействовали на него и пробудили от дремоты. Он
посмотрел вокруг... Рядом с ним лысеющий пианист слушал, закинув голову,
скрестив руки на груди и раскрыв рот. У сидевшей за ним учительницы фрейлейн
Энгельгарт глаза жадно блестели, на щеках пылали пятна - этот жаркий румянец
алел и на лицах других дам, попадавших в поле зрения Ганса Касторпа. Он
видел его и на лице фрау Заломон - вон она, рядом с господином Альбином, и
на лице супруги пивовара, фрау Магнус, той самой, которая теряла белок.
Черты фрау Штер, сидевшей в задних рядах, выражали столь примитивное
упоение, что просто жуть брала, а фрейлейн Леви, с ее кожей цвета слоновой
кости, откинулась на спинку стула, полузакрыв глаза, сложив плоские руки на
коленях, и напоминала бы покойницу, если бы не бурно и равномерно
вздымавшаяся грудь она больше всего походила на восковую фигуру, которую он
когда-то видел в паноптикуме, - в груди фигуры был механизм, заставлявший ее
дышать. Несколько пациентов слушали, приложив руку к уху, или намеревались
приложить, так как их руки были приподняты, но, захваченные лекцией, они
словно оцепенели. Прокурор Паравант, с виду загорелый здоровяк, даже тряхнул
себя за ухо, засунул в него указательный палец, словно желая прочистить, и
затем снова подставил потоку красноречия, лившемуся из уст доктора






 Корнев Павел
Корнев Павел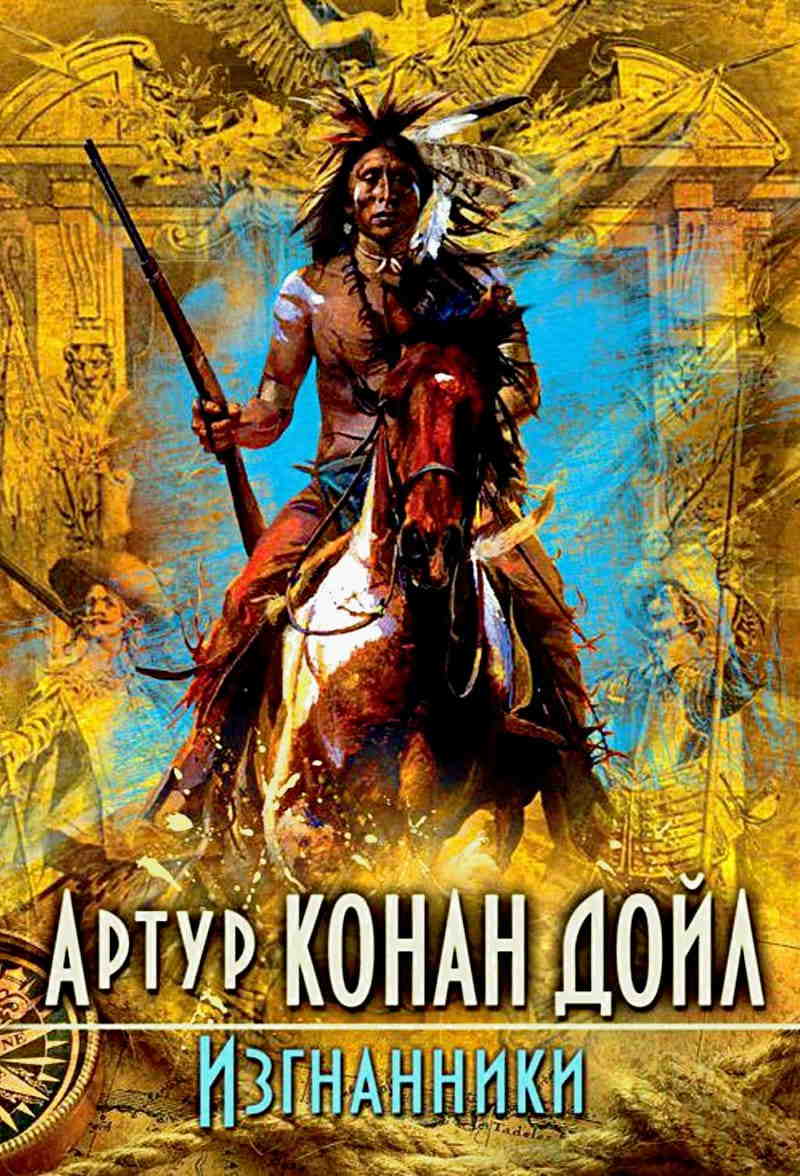 Конан-Дойль Артур
Конан-Дойль Артур Посняков Андрей
Посняков Андрей Акунин Борис
Акунин Борис Посняков Андрей
Посняков Андрей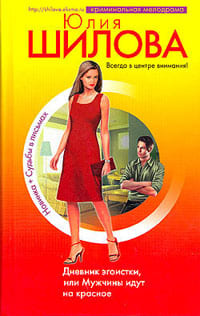 Шилова Юлия
Шилова Юлия