от испуга и тоски, и ему казалось, что это сама совесть, а не сердце,
судорожно и торопливо стучится в его грудную клетку.
В первый день Иоахим дал ему полный покой и избегал всяких разговоров.
Осторожно заглядывал он несколько раз в комнату, кивал лежавшему, спрашивал,
как и полагается, не нужно ли ему чего-нибудь. Впрочем, Иоахиму легко было
понять нежелание Ганса Касторпа пускаться в какие-либо объяснения, и он ни
на чем не настаивал, ибо, при своих взглядах на жизнь, считал собственное
положение еще более мучительным.
Но в воскресенье утром, вернувшись с прогулки, которую он совершил, как
прежде, в одиночестве, Иоахим набрался духу и решил дольше не откладывать
разговор с кузеном о самых неотложных вопросах. Он подошел к его постели и
сказал, вздохнув:
- Да, ничего не поделаешь, придется предпринять кое-какие шаги. Ведь
тебя дома, наверное, ждут?
- Нет еще, - ответил Ганс Касторп.
- Ну, в ближайшие дни, в среду или в четверг?
- Ах, они вовсе не ждут меня так уж точно, непременно в назначенный
день, - возразил Ганс Касторп. - Только у них и дела, что ждать меня да
считать дни, когда я вернусь. Вернусь и все, и дядя Тинапель скажет: "А, вот
и ты!" А дядя Джемс спросит: "Ну как, доволен?" И если я не приеду, так они
еще долго меня не хватятся, можешь быть уверен. Разумеется, со временем их
придется известить.
- Ты можешь себе представить, как мне все это не нравится, - продолжал
Иоахим и снова вздохнул. - А что будет дальше? Ведь и на мне лежит
ответственность за эту историю. Ты приезжаешь сюда наверх, чтобы навестить
меня, я ввожу тебя в нашу жизнь - и вдруг ты тут застреваешь, и никто не
знает, когда ты опять вырвешься и сможешь поступить на место. Согласись, что
мне это в высшей степени не нравится!
- Позволь, - остановил его Ганс Касторп, все еще лежавший, закинув руки
за голову. - Что ты мудришь? Не сочиняй глупостей. Разве я приехал сюда
наверх, только чтобы навестить тебя? Конечно, и для этого тоже, но в конце
концов главное - чтобы отдохнуть и поправиться, по совету Хейдекинда. И
вдруг выясняется, что я нуждаюсь в гораздо более серьезной поправке, чем он,
да и все мы могли себе представить. И я не первый - многие считали, что они
приезжают сюда с мимолетным визитом, а потом оказывалось, что они жестоко
ошиблись. Вспомни хотя бы второго сына "Tou -le -deux", и как у него все
сложилось - я даже не знаю, жив ли он еще, или его потихоньку вынесли во
время обеда? Ведь то, что я слегка болен, для меня неожиданность, мне нужно
сначала привыкнуть к мысли, что я тоже пациент, совершенно такой же, как вы,
а не просто гость, как я воображал вначале. С другой стороны, это вовсе не
такая неожиданность, ведь таким уж блистательно здоровым я себя никогда не
чувствовал, и, если вспомнить, что мои родители умерли очень рано, то
неоткуда было и взяться блистательному здоровью! У тебя тоже есть маленький
изъян, хотя он теперь, видимо, почти залечен, но мы все не придаем ему
особого значения, и, может быть, это у нас действительно в роду, по крайней
мере Беренс высказал такое предположение. Вот я лежу здесь со вчерашнего дня
и думаю, как я относился к жизни в целом, - понимаешь, к ее требованиям...
Моей натуре всегда были присущи известная серьезность и неприятие всего
слишком здорового и шумного, - мы еще недавно говорили о том, что меня порой
даже тянуло стать священником - ради всех этих скорбных и возвышенных
обрядов: этакий, понимаешь ли, черный покров с серебряным крестом и тремя
буквами R.I.Р. ...Requie cat i ace...* Это, пожалуй, прекраснейшие слова
на свете, и они мне гораздо симпатичнее всяких "Да здравствует", которые по
сути дела ведь только шумиха. Происходит это, вероятно, именно потому, что
во мне самом есть изъян и с детства было особое отношение к болезни, - вот
сейчас оно и сказалось. Но если дело обстоит так, то, наоборот, счастье, что
я попал сюда к вам и решил пройти осмотр, и тебе решительно не за что
упрекать себя. Ты же слышал: если бы я продолжал еще некоторое время жить
так, как жил, то у меня, быть может, ни за что ни про что полетело бы к
черту все легкое!
______________
* Да почиет в мире... (лат.).
- Ну, этого мы знать не можем, - сказал Иоахим. - В том-то и дело, что
знать не можем! У тебя ведь и раньше были очажки, и никто ими не
интересовался, они самостоятельно зарубцовывались, и теперь у тебя осталось
после них только несколько мест с притупленным звуком. Вполне возможно, что
если бы ты случайно не попал сюда наверх, так же случилось бы и с тем
очажком, который у тебя сейчас обнаружили! Тут ничего нельзя знать наперед.
- Нет, знать ничего нельзя, - подхватил Ганс Касторп, - и поэтому мы не
имеем права предполагать самое худшее, хотя бы, например, относительно
сроков моего лечения. Ты говоришь - неизвестно, когда меня отпустят отсюда и
я смогу поступить на верфь, но тон у тебя пессимистический, а я нахожу
пессимизм преждевременным, и именно потому, что мы ничего знать не можем.
Ведь Беренс никакого срока не назначил, он человек разумный и не строит из
себя пророка. Кроме того, еще не делали ни просвечивания, ни снимков, а ведь
только они дадут возможность судить объективно о положении дел, и, кто
знает, может быть, ничего заслуживающего внимания и не окажется, температура
может снизиться сегодня-завтра, и я спокойно распрощаюсь с вами. Нет, я за
то, чтобы раньше времени не бить тревогу и не пугать домашних всякими
ужасами. Достаточно, если мы на днях напишем им, я сам могу написать вот
этой авторучкой, - сяду в постели и напишу, что я сильно простужен,
поднялась температура, лежу и выехать пока не могу. А там видно будет.
- Ну хорошо, пока можно и так, насчет остального подождем.
- Что ты имеешь в виду?
- Какой же ты беззаботный! Ведь содержимое твоего чемодана рассчитано
на три недели! Тебе нужны белье, верхнее и нижнее, зимняя одежда и побольше
обуви. Да и денег тебе должны прислать.
- Если, - сказал Ганс Касторп, - если мне все это понадобится.
- Хорошо, подождем! Но не следует... - Иоахим взволнованно заходил по
комнате. - Нет, не следует создавать себе иллюзий! Я здесь пробыл слишком
долго, чтобы не знать, как это бывает. Когда Беренс констатирует, что в
верхушке легкого ослабленное дыхание, почти хрипы... Впрочем, конечно,
посмотрим.
На том дело пока и кончилось, а затем в свои права вступили
еженедельные и двухнедельные отклонения от обычного дневного распорядка
даже в лежачем положении Ганс Касторп принимал в них участие, если не
прямое, то хотя бы слушая рассказы Иоахима, когда тот заходил и присаживался
на четверть часика к нему на кровать.
На подносе, на котором ему в воскресенье утром принесли завтрак,
красовалась вазочка с цветами не забыли прислать и десертное печенье,
подававшееся в тот день в столовой. А позднее на террасе и в саду раздались
оживленные голоса, басовито запели трубы, загнусили кларнеты и начался
концерт, имевший место каждые две недели. Иоахим явился в комнату
двоюродного брата и слушал концерт с его балкончика дверь была открыта, и
Ганс Касторп, сидя в подушках и склонив голову набок, ловил долетавшие до
него созвучия он глядел перед собой благоговейно-любовным и мечтательным
взглядом и внутренне как бы пожимал плечами, вспоминая рассуждения
Сеттембрини о том, что музыка будто бы "политически неблагонадежна".
Но, кроме того, он, как мы уже отметили, требовал от Иоахима подробного
рассказа обо всех событиях и мероприятиях этих дней, выспрашивал, были ли в
воскресенье дамы в праздничных туалетах, в кружевных матине и так далее
(однако для кружевных матине день оказался слишком холодным), а также
отправился ли кто-нибудь после обеда кататься в колясках, - катанье
действительно имело место, "Союз однолегочных" i cor ore* ездил в
Клавадель, - а в понедельник больной даже пожелал узнать содержание
co fere ce** доктора Кроковского и стал расспрашивать о ней Иоахима, когда
тот вернулся с лекции и перед послеобеденным лежанием забежал его проведать.
Но Иоахим был молчалив, ему, видимо, не хотелось говорить. Однако Ганс
Касторп продолжал настаивать, он желал знать подробности.
______________
* В полном составе (лат.).
** Лекции (франц.).
- Хоть я и лежу, но плачу полностью, - заявил он, - и желаю получать
все, что здесь дают.
Он вспомнил тот понедельник две недели назад, когда самостоятельно
отправился на прогулку, столь утомившую его, и высказал предположение, что
именно она повлияла революционизирующим образом на его организм, после чего
и обнаружилась таившаяся в нем болезнь.
- Но меня поразило, как люди говорят здесь! - воскликнул он. - Знаешь,
простонародье, с каким достоинством и торжественностью порой кажется, что
это стихи. "Ну, счастливо и большое спасибо!" - повторил он, подражая
интонации дровосека. - Я слышал это в лесу и никогда не забуду. Такие вещи
связываются потом с другими впечатлениями и воспоминаниями и будут звучать в
душе до конца твоих дней... Значит, Кроковский опять рассуждал о "любви"? -
спросил он наконец и сделал гримасу.
- Само собой, - ответил Иоахим. - О чем же еще? Ведь это его тема.
- И что же он сказал сегодня?
- Ах, ничего особенного. Ты ведь слышал в прошлый раз, какие у него на
этот счет теории.
- Но что он сегодня преподнес вам новенького?
- Нового ничего... Сегодня была сплошная химия, - неохотно начал
рассказывать Иоахим. - Кроковский заявил, что при "этом", видишь ли,
происходит как бы своего рода отравление, самоотравление организма, а его
причина - какое-то неведомое, распространившееся по всему телу вещество. Оно
распадается, продукты распада действуют одурманивающе на некоторые центры
спинного мозга, и люди точно пьянеют, примерно так, как это бывает при
постоянном употреблении наркотиков - морфия или кокаина.
- И тогда начинают гореть щеки, - подхватил Ганс Касторп. - Скажи


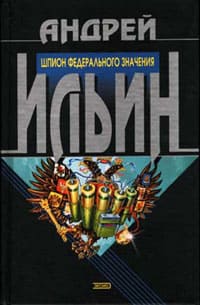
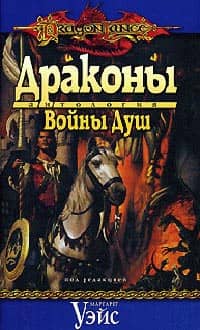


 Каргалов Вадим
Каргалов Вадим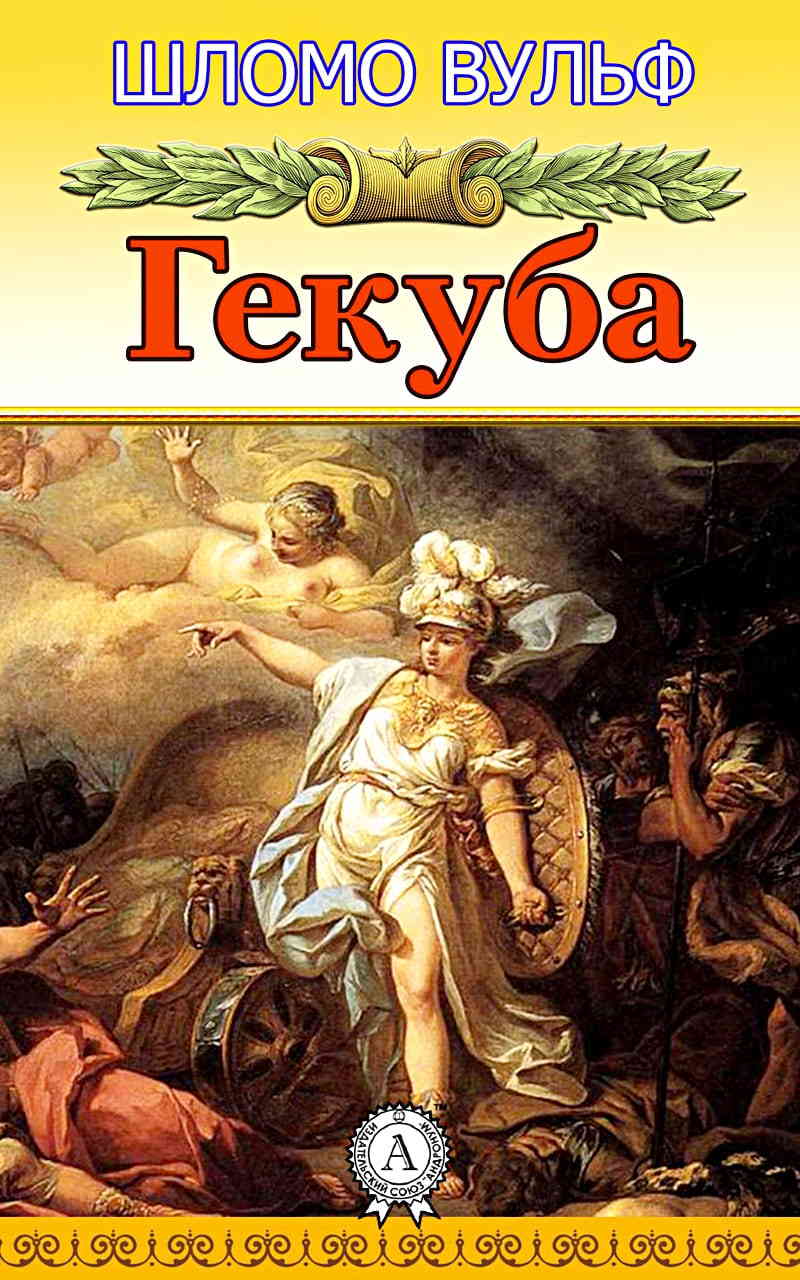 Шломо Вульф
Шломо Вульф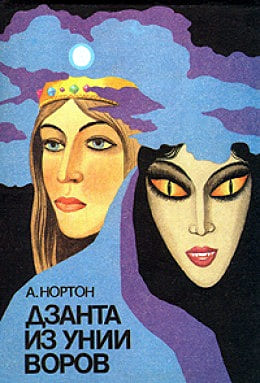 Нортон Андрэ
Нортон Андрэ Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Махров Алексей
Махров Алексей Сертаков Виталий
Сертаков Виталий