материальным и нематериальным. Так возникала проблема иного первичного
рождения, гораздо более загадочного и фантастического, чем проблемы
органической материи, а именно - первичного рождения вещества из
невещественного. И действительно - перекинуть мост через пропасть между
материальным и нематериальным казалось еще более важным, чем между
органической и неорганической природой. Должна была существовать химия
нематериального, невещественных соединений, из которых возникло вещество,
подобно тому как возникли организмы из неорганических соединений и, может
быть, атомы - это пробии и монеры{395} материи, по природе своей они уже
вещественны и все же еще невещественны. Но когда доходишь до определения
"даже не мал", масштабы теряются "даже не мал" - это все равно что
"чудовищно велик", а приближение к атому оказывалось, без преувеличения,
действительно роковым, ибо в миг последнего деления и дробления материальной
частицы внезапно раскрывался астрономический космос!
Атом оказывался заряженной энергией космической системой, в которой
космические тела вращались вокруг некоего центра, подобного солнцу, и через
эфирное пространство которой со скоростью световых лет проносились кометы, а
сила притяжения центрального небесного тела не давала им сойти с их
эксцентрических путей. И это было не только сравнением, так же как мы не
просто ради сравнения называем многоклеточные существа "колонией клеток",
или "государством" клеток город, государство, социальную общину,
организованные по принципу разделения труда, не только можно было уподобить
органической жизни - они в точности повторяли ее. Так отражался в
сокровеннейших недрах природы, в ее отдаленных глубинах макрокосмический
звездный мир, чьи скопления, россыпи, группы, фигуры, побледневшие от
лунного света, плыли над головой закутанного в одеяла адепта и над
сверкавшей замерзшей долиной. И разве нельзя было допустить, что некоторые
планеты атомной солнечной системы, эти несметные множества и млечные пути
солнечных систем, из которых построена материя, - что на том или другом из
этих микрокосмических небесных тел существуют условия, подобные нашим
земным, давшим земле возможность стать очагом жизни? Молодому адепту с
несколько возбужденными нервами и "сверхнормальным" интересом к человеческой
коже, обладающему также некоторым опытом в области запретного, это не только
не казалось абсурдом, а даже до навязчивости правдоподобной гипотезой,
построением ума, логически чрезвычайно убедительным. Ведь "ничтожная"
величина микрокосмических звездных тел - возражение весьма шаткое, ибо
масштабы "большого" и "малого" оказались непригодными с той минуты, когда
открылся космический характер мельчайших частиц вещества, исчезла и
устойчивость понятий внешнего и внутреннего. Мир атома - это было нечто
внешнее, и очень вероятно, что наша планета, на которой мы живем, с точки
зрения органической представляла собой нечто глубоко внутреннее.
Разве некий исследователь с дерзостью мечтателя не говорил о животных
"млечного пути", о космических чудовищах, чья плоть, кости и мозг состоят из
солнечных систем?{396} Но если это так, думал Ганс Касторп, то в ту минуту,
когда воображаешь, что дошел до самого конца, все начинается опять сначала!
Может быть, в глубине глубин своей сущности он сам, молодой Ганс Касторп,
уже не раз, а сотни раз лежал вот так на балконе, тепло укутанный, глядя на
высокогорье, озаренное луной морозной ночи, и с окоченевшими пальцами и
горящим лицом, охваченный медико-гуманистическим пылом, изучал телесную
жизнь?
Патологическая анатомия, которую он держал несколько боком, чтобы на
нее падал красноватый свет настольной лампочки, разъяснила ему - текст книги
сопровождался к тому же иллюстрациями - сущность паразитических костных
образований и инфекционных опухолей. Это были особые формы тканей, очень
крупные, их вызывало вторжение инородных клеток в организм, оказавшийся к
ним восприимчивым - быть может, восприимчивым в результате некоей
распущенности, - но предоставлявший им благоприятные условия для развития.
Паразит не только питался за счет окружающих тканей: как и в любой клетке, в
нем происходил обмен веществ и создавались органические соединения, которые
оказывались для организма, на котором он жил, необычайно ядовитыми и
непреодолима губительными. Люди все же научились изолировать и
концентрировать извлеченные из некоторых микроорганизмов токсины, и просто
удивительно, каких малых доз этих токсинов, принадлежащих просто к ряду
белковых соединений, было достаточно, чтобы, введя их в кровь животного,
вызвать все признаки опаснейшего отравления и неотвратимой гибели. Внешним
показателем этой зараженности является разрастание тканей, патологическая
опухоль, как реакция клеток на раздражение, вызванное внедрившимися между
ними бациллами. Образовывались узелки с просяное зерно, состоявшие из
клеток, подобных клеткам слизистых оболочек, и между ними или в них-то и
гнездились бациллы, причем некоторые клетки были необычайно богаты
протоплазмой, имели несколько ядер и разрастались до гигантских размеров.
Однако это излишество очень скоро приводило к смерти, ибо ядра чудовищных
клеток начинали сморщиваться и распадаться, а протоплазма свертывалась и
гибла раздражение распространялось на соседние клетки, воспалительный
процесс усиливался, захватывал близлежащие кровеносные сосуды к больному
месту начинали собираться белые кровяные тельца, процесс опасного для жизни
свертывания продолжался. А тем временем растворенные бактериальные яды уже
давно отравляли нервную систему, температура организма поднималась очень
высоко, и он, с бурно вздымающейся грудью, так сказать, брел неверным шагом
навстречу своему распаду.
Поскольку патология, то есть наука о болезнях, делала особое ударение
на болезнях тела, подчеркивала телесность, а тем самым и чувственность,
болезнь представлялась Гансу Касторпу особой распутной формой жизни. А
жизнь? Чем являлась она? Может быть, она тоже лишь инфекционное заболевание
материи? Может быть, и то, что мы называем первичным рождением материи, было
также всего лишь неправомерным разрастанием нематериального, вызванным
каким-то раздражением? Первый шаг ко злу, к чувственности и к смерти,
бесспорно, следовало искать в том моменте, когда, вызванное щекоткой
неведомой инфильтрации, впервые произошло уплотнение духовного, его
патологическое разрастание, которое, будучи наполовину наслаждением,
наполовину самозащитой, оказалось первой ступенью, ведущей к вещественности,
переходом от нематериального к материальному это и было грехопадением. А
второй момент первичного рождения, возникновение органической природы из
неорганической, оказался только дурным повышением телесности до сознания,
так же как болезнь организма является лишь хмельным повышением, непристойным
подчеркиванием телесности. Жизнь была еще одним неизбежным шагом на этом
опасном пути духа, утратившего свое достоинство, тепловым рефлексом стыда
пробужденной чувствительности материи, оказавшейся сладострастно
восприимчивой к возбудителю.
Книги были грудой навалены на столике под лампой, одна лежала около
шезлонга, на полу, покрытом циновкой, а та, которую Ганс Касторп изучал
последней, лежала у него на животе, давила и очень мешала дышать, однако
кора его головного мозга не отдавала соответствующим мышцам приказ снять ее.
Он дочитал страницу донизу, его подбородок уперся в грудь, веки над
простодушными голубыми глазами опустились. Он увидел перед собой образ
представшей ему жизни, цветущую стройность членов, несомую плотью красоту.
Женщина отвела руки от затылка и простерла их вперед, причем на внутренней
стороне, под нежной кожей локтевого сгиба выступили сосуды, две голубоватые
ветви вен, - и эти руки были невыразимо сладостны. И вот она наклонилась,
наклонилась к нему, наклонилась над ним, он ощутил ее органическое
благоухание, почувствовал острые толчки ее сердца. Что-то горячо и нежно
обвило его шею, и в то время как Ганс Касторп, изнемогая от блаженства и
ужаса, положил свои руки на ее предплечья, туда, где зернистая кожа,
обтягивавшая мышцы, была так благодатно свежа, - она впилась в его губы, и
он ощутил влагу ее поцелуя.
ХОРОВОД МЕРТВЕЦОВ
Вскоре после рождества умер аристократ-австриец... Но до этого все же
пришло рождество, два праздничных дня, а если прибавить сочельник, то и три
Ганс Касторп ждал их с некоторым страхом и сомнением, спрашивая себя, как
они будут здесь отмечаться, а оказалось - самые обыкновенные дни - с утром,
полднем и вечером, с неважной погодой (слегка таяло), они так же, как
другие, начались и кончились только внешне слегка приукрашенные и
выделенные, в течение положенного срока жили они в умах и сердцах людей и,
оставив после себя некоторый след иных, чем в будни, впечатлений, отошли
сначала в недавнее, а затем и в далекое прошлое. На праздники приехал к
гофрату сын, его звали Кнут. Он жил у отца в боковом флигеле это был
красивый юноша, но и у него уже слишком круто выдавался затылок. Присутствие
молодого Беренса тотчас сказалось: дамы стали вдруг необыкновенными
хохотуньями, капризницами и франтихами, а в их разговорах беспрестанно
мелькали упоминания о встречах с Кнутом то в саду, то в лесу, то в курзале.
Впрочем, к нему самому нагрянули гости: в долину явилась группа его
товарищей по университету, шесть-семь студентов, они поселились в местечке,
но столовались у гофрата. Кнут примкнул к ним, и все они дружным табунком
бродили по окрестностям. Ганс Касторп избегал этих молодых людей и, при
случае, вместе с Иоахимом уклонялся от встречи, не чувствуя никакого желания
знакомиться. Целый мир отделял его, члена общины живших здесь наверху, от
этих юношей, которые пели, лазали по горам и размахивали палками: он знать о
них не хотел. Кроме того, большинство были, видимо, северяне, среди них
могли оказаться и его земляки, а Ганс Касторп просто боялся своих земляков,
он не раз представлял себе возможность того, что в "Берггофе" вдруг
объявятся какие-нибудь гамбуржцы - город этот, по словам Беренса, неизменно
поставляет санаторию солидный контингент пациентов. Может быть, среди
тяжелобольных или "морибундусов", которые не показывались, и был кто-нибудь
из Гамбурга. Но выходил из своей комнаты только один коммерсант с
ввалившимися щеками, он две-три недели обедал за столом фрау Ильтис, и
говорили, что он из Куксхафена. Глядя на него, Ганс Касторп радовался,
во-первых, тому, что здесь так трудно заводить знакомство с сидящими за


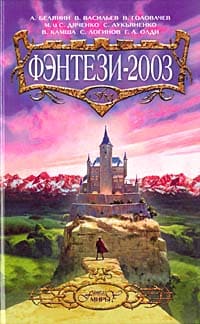



 Соломатина Татьяна
Соломатина Татьяна Браун Дэн
Браун Дэн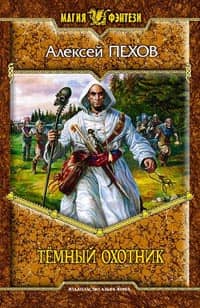 Пехов Алексей
Пехов Алексей Шилова Юлия
Шилова Юлия Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс Сертаков Виталий
Сертаков Виталий