– Я родился во Флоренции и люблю эту землю, – отвечал купец с простотою, – не хотелось бы мне, чтобы чужеземцы могли сказать, что мы, подобно варварам, сжигаем невинные произведения мудрецов и художников.
Монах посмотрел на него с удивлением и молвил:
– О, сын мой, если бы любил ты свое отечество небесное так же, как земное!.. Но утешься: на костре погибнет достойное гибели, ибо злое и порочное не может быть прекрасным, по свидетельству ваших же хваленых мудрецов.
– Уверены ли вы, отец, – сказал Чиприано, – что дети всегда без ошибки могут отличить доброе от злого в произведениях искусства и науки?
– Из уст младенцев правда исходит, – возразил монах. – Ежели не обратитесь и не станете как дети, не можете войти в царство небесное. Погублю мудрость мудрецов, разум разумных отвергну, говорит Господь. Денно и нощно молюсь я о малых сих, дабы то, чего умом не поймут они в суетах искусства и науки, открылось им свыше, благодатью Духа Святого.
– Умоляю вас, подумайте, – заключил консул, вставая. – Быть может, некоторая часть...
– Не тратьте даром слов, мессере! – остановил его брат Джироламо. – Решение мое неизменно.
Чиприано снова, пожевав своими бледными старушечьими губами, пробормотал себе что-то под нос. Савонарола услышал только последнее слово:
– Безумие...
– Безумие! – подхватил он, и глаза его вспыхнули. – Ну а разве Золотой Телец Борджа, преподносимый в кощунственных празднествах папе, – не безумие? Разве Святейший Гвоздь, поднятый во славу Господа на дьявольской машине похитителем престола, убийцей Моро, – не безумие? Вы пляшете вокруг бога вашего Маммона. Дайте же и нам, худоумным, побезумствовать, поюродствовать во славу нашего Бога, Христа Распятого! Вы издеваетесь над монахами, плясавшими пред Крестом на площади. Погодите, то ли еще будет! Посмотрим, что скажете вы, разумники, когда заставлю я не только монахов, но весь народ флорентинский, детей и взрослых, стариков и женщин, в ярости, Богу угодной, плясать вокруг таинственного Древа Спасения, как некогда Давид плясал перед Ковчегом Завета в древней Скинии Бога Всевышнего!
VI
Джованни, выйдя из кельи Савонаролы, отправился на площадь Синьории.
На Виа Ларга встретил он Священное Воинство. Дети остановили двух черных невольников с паланкином, в котором лежала роскошно одетая женщина. Белая собачка спала у нее на коленях. Зеленый попугай и мартышка сидели на жердочке. За носилками следовали слуги и телохранители.
То была кортиджана, недавно приехавшая из Венеции, Лена Гриффа, из разряда тех, которых правители Яснейшей республики называли с почтительною вежливостью «puttana onesta», «meretrix onesta», «благородная, честная блудница», или с ласковою шутливостью – «mammola», «девушка». В знаменитом, изданном для удобства путешественников «Catalogo di tutte le puttane del bordello con il lor prezzo» – «Каталоге всех блудниц в домах терпимости с их ценами» против имени Лены Гриффы, напечатанного крупными буквами, отдельно от других, на самом почетном месте, стояла цена – четыре дуката, а за святые ночи, кануны праздников, цена двойная – «из почтения к Матери Господа».
Развалившись на подушках, с видом Клеопатры или царицы Савской, мона Лена читала записку влюбленного в нее молодого епископа, с приложенным сонетом, который кончался такими стихами:
Когда пленительным речам твоим я внемлю,
О, Лена дивная, то, покидая землю,
Возносится мой дух к божественным красам
Платоновых идей и к вечным небесам.
Кортиджана обдумывала ответный сонет. Рифмами владела она в совершенстве, и недаром говаривала, что, если бы это зависело от нее, она, конечно, проводила бы все свое время «в академиях добродетельных мужей».
Священное Воинство окружило носилки. Предводитель одного из отрядов, Доффо, выступил, поднял над головой алый крест и воскликнул торжественно:
– Именем Иисуса, короля Флоренции, и Марии Девы, нашей королевы, повелеваем тебе снять сии греховные украшения, суеты и анафемы. Ежели ты этого не сделаешь, да поразит тебя болезнь!
Собачка проснулась и залаяла; мартышка зашипела; попугай захлопал крыльями, выкрикивая стих, которому научила его хозяйка:
Amore a nullo amato amar perdona. [Любовь не полюбить никому не позволит (ит.).]
Лена собиралась сделать знак телохранителям, чтобы разогнали они толпу, – когда взор ее упал на Доффо. Она поманила его пальцем.
Мальчик подошел, потупив глаза.
– Долой, долой наряды! – кричали дети. – Долой суеты и анафемы!
– Какой хорошенький! – тихо произнесла Лена, не обращая внимания на крики толпы. – Послушайте, мой маленький Адонис, я, конечно, с радостью отдала бы все эти тряпки, чтобы сделать вам удовольствие, – но вот в чем беда: они не мои, а взяты напрокат у жида. Имущество такой неверной собаки едва ли может быть приношением, угодным Иисусу и Деве Марии.
Доффо поднял на нее глаза. Мона Лена, с едва заметной усмешкой кивнув головой, как будто подтверждая его тайную мысль, проговорила другим голосом, с певучим и нежным венецианским говором:
– В переулке Бочаров у Санта Тринита?. Спроси кортиджану Лену из Венеции. Буду ждать...
Доффо оглянулся и увидел, что товарищи, увлеченные бросанием камней и перебранкой с вышедшей из-за угла шайкой противников Савонаролы, так называемых «бешеных» – «аррабиати», не обращали более внимания на кортиджану. Он хотел им крикнуть, чтобы они напали на нее, но вдруг смутился и покраснел.
Лена засмеялась, показывая между красными губами острые белые зубы. Сквозь образ Клеопатры и царицы Савской мелькнула в ней венецианская «маммола» – шаловливая и задорная уличная девочка.
Негры подняли носилки, и кортиджана продолжала путь безмятежно. Собачка опять уснула на ее коленях, попугай нахохлился, и только неугомонная мартышка, строя уморительные рожи, старалась лапкою поймать карандаш, которым вельможная блудница выводила первый стих ответного сонета епископу:
Любовь моя чиста, как вздохи серафимов.
Доффо, уже без прежней удали, во главе своего отряда всходил по лестнице чертогов Медичи.
VII
В темных покоях, где все дышало величием прошлого, дети охвачены были робостью.
Но открыли ставни. Загремели трубы. Застучали барабаны. И с радостным криком, смехом и пением псалмов рассыпались маленькие инквизиторы по залам, творя суд Божий над соблазнами искусства и науки, отыскивая и хватая «суеты и анафемы», по наитию Духа Святого.
Джованни следил за их работой.
Наморщив лоб, заложив руки за спину, с медлительной важностью, как судьи, расхаживали дети среди изваяний великих мужей, философов и героев языческой древности.
– Пифагор, Анаксимен, Гераклит, Платон, Марк Аврелий, Эпиктет, – читал по складам один из мальчиков латинские надписи на подножиях мраморных и медных изваяний.
– Эпиктет! – остановил его Федериджи, насупив брови с видом знатока. – Это и есть тот самый еретик, который утверждал, что все наслаждения позволены и что Бога нет. Вот кого бы сжечь! Жаль, мраморный...
– Ничего, – молвил бойкий, косоглазый Пиппо, – мы его все-таки попотчуем!
– Это не тот! – воскликнул Джованни. – Вы смешали Эпиктета с Эпикуром...
Но было поздно: Пиппо размахнулся, ударил молотком и так ловко отбил нос мудрецу, что мальчики захохотали.
– Э, все равно, Эпиктет, Эпикур – два сапога пара. «Все пойдут в жилище дьявола!» – повторил он любимую поговорку Савонаролы.
Перед картиной Боттичелли заспорили: Доффо уверял, будто бы она соблазнительная, так как изображает голого юношу Вакха, пронзенного стрелами бога любви; но Федериджи, соперничавший с Доффо в умении отличить «суеты и анафемы», подошел, взглянул и объявил, что это вовсе не Вакх.
– А кто же, по-твоему? – спросил Доффо.
– Кто! Еще спрашивает! Как же вы, братцы, не видите? Св. первомученик Стефан!
Дети в недоумении стояли перед загадочною картиной: если это был в самом деле святой, почему же голое тело его дышало такою языческою прелестью, почему выражение муки в лице было похоже на сладострастную негу?
– Не слушайте, братцы, – закричал Доффо, – это мерзостный Вакх!
– Врешь, богохульник! – воскликнул Федериджи, поднимая крест, как оружие.
Мальчики бросились друг на друга; товарищи едва успели их разнять. Картина осталась под сомнением.
В это время неугомонный Пиппо вместе с Лукой, который давно уже утешился и перестал хныкать о своих остриженных кудрях, – ибо никогда еще, казалось ему, не участвовал он в таких веселых шалостях, – забрались в маленький темный покой. Здесь, у окна, на высокой подставке, стояла одна из тех ваз, которые изготавливаются венецианскими стекольными заводами Мурано. Задетая лучом сквозь щель закрытых ставень, вся она искрилась в темноте огнями разноцветных стекол, как драгоценными каменьями, подобная волшебному огромному цветку.
Пиппо взобрался на стол, тихонько, на цыпочках, – точно ваза была живая и могла убежать, – подкрался, плутовато высунул кончик языка, поднял брови над косыми глазами и толкнул ее пальцем. Ваза качнулась, как нежный цветок, упала, засверкала, зазвенела жалобным звоном, разбилась – и потухла. Пиппо прыгал, как бесенок, ловко подкидывая вверх и подхватывая на лету алый крест. Лука, с широко открытыми глазами, горевшими восторгом разрушения, тоже скакал, визжал и хлопал в ладоши.
Услышав издали радостные крики товарищей, вернулись они в большую залу.
Здесь Федериджи нашел чулан со множеством ящиков, наполненных такими «суетами», каких даже самые опытные из детей никогда не видывали. То были маски и наряды для тех карнавальных шествий, аллегорических триумфов, которые любил устраивать Лоренцо Медичи Великолепный. Дети столпились у входа в чулан. При свете сального огарка выходили перед ними картонные чудовищные морды фавнов, стеклянный виноград вакханок, колчан и крылья Амура, кадуцей Меркурия, трезубец Нептуна и, наконец, при взрыве общего хохота, появились деревянные, позолоченные, покрытые паутиною молнии Громовержца и жалкое, изъеденное молью чучело олимпийского орла, с общипанным хвостом, с клочками войлока, торчавшего из продырявленного брюха.
Вдруг из пышного белокурого парика, вероятно, служившего Венере, выскочила крыса. Девочки завизжали. Самая маленькая, вспрыгнув на стул, брезгливо подняла платьице выше колен.
Над толпой повеяло холодом ужаса и отвращения к этой языческой рухляди, к могильному праху умерших богов. Тени летучих мышей, испуганных шумом и светом, бившихся о потолок, казались нечистыми духами.
Прибежал Доффо и объявил, что наверху есть еще одна запертая комната: у дверей сторожит маленький, сердитый, красноносый и плешивый старичок, ругается и никого не пускает.
Отправились на разведку. В старичке, охранявшем двери таинственной комнаты, Джованни узнал своего друга, мессера Джорджо Мерулу, великого книголюбца.
– Давай ключ! – крикнул ему Доффо.
– А кто вам сказал, что ключ у меня?
– Дворцовый сторож сказал.
– Ступайте, ступайте с Богом!
– Ой, старик, берегись! Повыдергаем мы тебе последние волосы!
Доффо подал знак. Мессер Джорджо стал перед дверями, собираясь защитить их грудью. Дети напали на него, повалили, избили крестами, обшарили ему карманы, отыскали ключ и отперли дверь. Это была маленькая рабочая комната с драгоценным книгохранилищем.
– Вот здесь, здесь, – указывал Мерула, – в этом углу все, что вам надо. На верхние полки не лазайте: там ничего нет.
Но инквизиторы не слушали его. Все, что попадалось им под руку – особенно книги в роскошных переплетах, – швыряли они в кучу. Потом открыли настежь окна, чтобы выбрасывать толстые фолианты прямо на улицу, где стояла повозка, нагруженная «суетами и анафемами». Тибулл, Гораций, Овидий, Апулей, Аристофан – редкие списки, единственные издания – мелькали перед глазами Мерулы.
Джованни заметил, что старик успел выудить из кучи и ловко спрятал за пазуху маленький томик: это была книга Марцеллина, с повествованием о жизни императора Юлиана Отступника.
Увидев на полу список трагедий Софокла на шелковистом пергаменте, с тончайшими заглавными рисунками, он бросился к нему с жадностью, схватил его и взмолился жалобно:
– Деточки! Милые! Пощадите Софокла! Это самый невинный из поэтов! Не троньте, не троньте!..
С отчаянием прижимал он книгу к груди; но, чувствуя, как рвутся нежные, словно живые, листы, заплакал, застонал, точно от боли, – отпустил ее и закричал в бессильной ярости:
– Да знаете ли, подлые щенки, что каждый стих этого поэта бо?льшая святыня перед Богом, чем все пророчества вашего полоумного Джироламо!..
– Молчи, старик, ежели не хочешь, чтобы мы и тебя вместе с твоими поэтами за окно выбросили!
И, снова напав на старика, взашей вытолкали его из книгохранилища.


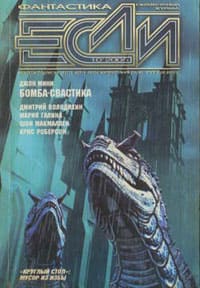
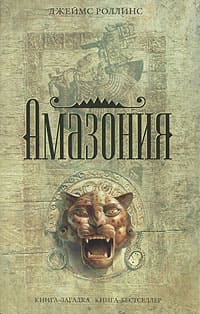

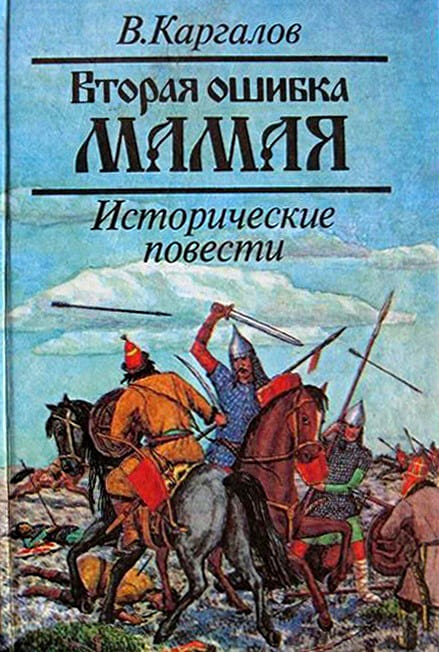
 Куликов Роман
Куликов Роман Каменистый Артем
Каменистый Артем Суворов Виктор
Суворов Виктор Никитин Юрий
Никитин Юрий Шилова Юлия
Шилова Юлия Круз Андрей
Круз Андрей