«Красивые женщины плодороднее ли некрасивых? Естественно ли было исцеление Товия рыбною желчью? Есть ли женщина несовершенное создание природы? В какой внутренней части тела образовалась вода, вытекавшая из раны Господа, когда на костре Он пронзен был копьем? Женщина сладострастнее ли мужчины?»
Следовало состязание философское о том, многообразна ли первично-первая материя или едина?
– Что значит сия апофтегма? – спрашивал старичок с ядовитой беззубой усмешкой, с глазами мутными, как у грудных детей, великий доктор схоластики, сбивая с толку своих противников и устанавливая такое тонкое отличие quidditas от habitus [Сущности от внешнего (лат.)] , что никто не мог его понять.
– Первично-первая материя, – доказывал другой, – не есть ни субстанция, ни акцидент. Но поколику под всяким актом разумеется или акцидент, или субстанция, потолику первично-первая материя не есть акт.
– Я утверждаю, – восклицал третий, – что всякая созданная субстанция, духовная или телесная, причастна материи.
Старый доктор схоластики только покачивал головой, точно заранее знал все, что возразят ему противники, и мог разрушить софизмы их одним дуновением, как паутину.
– Скажем так, – объяснял четвертый, – мир есть дерево: корни – первая материя, листья – акцидент, ветви – субстанция, цвет – разумная душа, плод – ангельская природа, Бог – садовник.
– Первично-первая материя едина, – выкрикивал пятый, никого не слушая, – вторично-первая двойственна, третично-первая множественна. И все стремятся к единству. Omnia unitatem appetunt.
Леонардо слушал, как всегда, молчаливый и одинокий; порой тонкая усмешка скользила по его губам.
После перерыва математик, францисканский монах фра Лука Паччоли, показал хрустальные изображения многогранников – полиэдров, излагая пифагорейское учение о пяти первозданных правильных телах, из коих будто бы возникла вселенная, и прочел стихи, которыми эти тела сами себя прославляют:
Науки плод сладчайший и прелестный
Всех побуждал издревле мудрецов
Искать причины нашей неизвестной.
Мы красотой сияем бестелесной.
Мы – первое начало всех миров,
И нашею гармонией чудесной
Платон пленялся, Пифагор, Евклид.
Предвечную мы наполняем Сферу,
Такой имея совершенный вид,
Что всем телам даем закон и меру.
VI
Графиня Чечилия, указывая на Леонардо, шепнула что-то герцогу. Тот подозвал его и просил принять участие в поединке.
– Мессере, – приступила к нему сама графиня, – будьте любезны...
– Видишь, дамы просят, – молвил герцог. – Не скромничай. Ну, что тебе стоит? Расскажи нам что-нибудь позабавнее. Я ведь знаю, ум у тебя всегда полон чудеснейшими химерами...
– Ваше высочество, увольте. Я бы рад, мадонна Чечилия, но, право же, не могу, не умею...
Леонардо не притворялся. Он в самом деле не любил и не умел говорить перед толпою. Между словом и мыслью его была вечная преграда. Ему казалось, что всякое слово преувеличивает или недоговаривает, изменяет и лжет. Отмечая свои наблюдения в дневниках, он постоянно переделывал, перечеркивал и поправлял. Даже в разговоре запинался, путался, обрывал – искал и не находил слов. Ораторов, писателей называл болтунами, щелкоперами, а между тем, втайне, завидовал им. Округленная плавность речи, иногда у самых ничтожных людей, внушала ему досаду, смешанную с простодушным восхищением. «Дает же Бог людям такое искусство!» – думал он.
Но чем усерднее отказывался Леонардо, тем более настаивали дамы.
– Мессере, – щебетали они хором, окружив его, – пожалуйста! Мы все, видите, все умоляем вас. Ну расскажите же, расскажите нам что-нибудь хорошенькое!..
– О том, как люди будут летать, – предложила дондзелла Фиордализа.
– Лучше о магии, – подхватила дондзелла Эрмеллина, – о черной магии. Это так любопытно! Некромантия – как мертвецов из могил вызывают...
– Помилуйте, мадонна, могу вас уверить, я никогда мертвецов не вызывал...
– Ну, все равно, о чем-нибудь другом. Только пострашнее – и без математики...
Леонардо не умел отказывать, кто и о чем бы его ни просил.
– Я, право, не знаю, мадонны... – проговорил он в смущении.
– Согласен! Согласен! – захлопала в ладоши Эрмеллина. – Мессер Леонардо будет говорить. Слушайте!
– Что такое? А? Кто? – спрашивал выживший из ума от старости, тугой на ухо декан богословского факультета.
– Леонардо! – крикнул ему сосед, молодой магистр медицины.
– О Леонардо Пизано, математике, что ли?
– Нет, сам Леонардо да Винчи.
– Да Винчи? Доктор или магистр?
– Не доктор и не магистр, даже не бакалавр, а так, просто художник Леонардо, тот, что Тайную Вечерю писал.
– Художник? О живописи?
– Кажется, по естественным наукам...
– По естественным наукам? Да разве ныне художники учеными стали? Леонардо?.. Что-то не слыхал... Какие же у него сочинения?
– Никаких. Он не издает.
– Не издает?
– Говорят, все левою рукою пишет, – вмешался другой сосед, – тайным письмом, так, чтобы нельзя было разобрать.
– Чтобы нельзя было разобрать? Левою рукою? – с возрастающим изумлением повторял декан. – Да это, мессеры, должно быть, что-нибудь смешное. А? Для отдыха от занятий, я так полагаю, для развлечения герцога и прекраснейших синьор?
– Может быть, и смешное. Вот посмотрим...
– Ну, то-то. Вы бы так и сказали... Конечно, люди придворные: нельзя не повеселиться. Ну да и забавный народ эти художники – умеют потешить! Вот Буффальмако, шут, говорят, был тоже и весельчак хоть куда... Ну, послушаем, послушаем, какой такой Леонардо!
Он протер очки, чтобы лучше видеть предстоявшее зрелище.
С последней мольбой взглянул Леонардо на герцога. Тот, улыбаясь, хмурился. Графиня Чечилия грозила пальчиком.
«Пожалуй, рассердятся, – подумал художник. – Скоро надо просить о выдаче бронзы для Коня... Э, все равно, куда ни шло – расскажу им первое, что в голову взбредет, – только бы отвязаться!»
С отчаянною решимостью он взошел на кафедру и оглянул ученое собрание.
– Я должен предупредить ваши милости, – начал он, заикаясь и краснея, как школьник. – Для меня неожиданно... Только по настоянию герцога... То есть, я хочу сказать... мне кажется... ну, словом – я буду говорить о раковинах.
Он стал рассказывать об окаменелых морских животных, отпечатках водорослей и кораллов, находимых в пещерах и горах, вдали от моря, – свидетелях того, как с незапамятной древности лицо земли изменялось – там, где ныне суша и горы, было дно океана. Вода, двигатель природы – ее возница , – создает и разрушает горы. Приближаясь к середине морей, берега растут, и внутренние, средиземные моря постепенно обнажают дно, оставляя лишь русло единой реки, впадающей в океан. Так По, высушив Ломбардию, впоследствии сделает то же со всей Адриатикой. Нил, превратив Средиземное море в песчаные холмы и равнины, подобные Египту и Ливии, будет впадать в океан за Гибралтаром.
– Я уверен, – заключил Леонардо, – что исследование окаменелых животных и растений, которым доныне ученые пренебрегали, даст начало новой науке о земле, о ее прошлом и будущем.
Мысли его были так ясны, точны, полны, несмотря на видимую скромность, непоколебимой верою в знание, так не похожи на туманные пифагорейские бредни Паччоли, на мертвую схоластику ученых докторов, что, когда он умолк, на лицах выразилось недоумение: как быть? что делать? хвалить или смеяться? новая ли это наука или самонадеянный лепет невежды?
– Мы очень бы желали, мой Леонардо, – сказал герцог со снисходительной улыбкой, как взрослые говорят с детьми, – мы очень бы желали, чтобы пророчество твое исполнилось, чтобы Адриатическое море высохло, и венецианцы, наши враги, остались на лагунах своих, как раки на мели!
Все почтительно и вместе с тем преувеличенно засмеялись. Направление было дано – и придворные флюгеры повернулись по ветру. Ректор Павийского университета, Габриеле Пировано, серебристо-седой, благообразный старик, с величественным и ничтожным лицом, произнес, отражая в учтиво-осторожной, плоской улыбке своей снисходительную шутливость герцога:
– Сообщенные вами сведения очень любопытны, мессер Леонардо. Но я позволю себе заметить: не проще ли объяснить происхождение этих маленьких ракушек – случайной, забавной, можно сказать, очаровательной, но совершенно невинной игры природы, на коей вы желаете основать целую науку, – не проще ли, говорю я, объяснить их происхождение, как и раньше это делали, – всемирным потопом?
– Да, да, потоп, – подхватил Леонардо, уже без всякого смущения, с непринужденностью, которая многим показалась чересчур вольной, даже дерзкой, – я знаю, все говорят: потоп. Только объяснение это никуда не годится. Посудите сами: уровень воды во время потопа, по словам того, кто измерял его, был на десять локтей выше высочайших гор. Следовательно, раковины, носимые бурными волнами, должны были бы опуститься сверху, непременно сверху, мессер Габриеле, а не сбоку, не у подножия гор, но внутри подземных пещер, и притом – в беспорядке, по прихоти волн, а не на одном и том же уровне, не последовательными слоями, как мы это наблюдаем. И ведь заметьте, – вот что любопытно! – те животные, которые водятся стадами, – слизняки, каракатицы, устрицы – так и лежат вместе; а живущие в одиночку лежат порознь, точь-в-точь как мы это можем видеть и ныне на морских берегах. Я сам много раз наблюдал расположение окаменелых раковин в Тоскане, в Ломбардии, в Пьемонте. Если же вы скажете, что они занесены не волнами потопа, а сами мало-помалу поднялись за водой, по мере того как она прибывала, то и это возражение очень легко опровергнуть, ибо раковина – животное столь же или даже еще более медлительное, чем улитка. Никогда не плавает она, а только ползает по песку и камням посредством движения створ, и самое большее, что может сделать в день такого пути, – три-четыре локтя. Как же, скажите на милость, как же вы хотите, мессер Габриеле, чтобы в течение сорока дней, которые длился потоп, по свидетельству Моисея, проползла она 250 миль, отделяющих холм Монферато от берегов Адриатики? Утверждать это посмеет лишь тот, кто, пренебрегая опытом и наблюдением, судит о природе по книгам, по измышлениям болтунов-словесников и ни разу не полюбопытствовал собственными глазами взглянуть на то, о чем говорит!
Наступило неловкое молчание. Все чувствовали, что возражение ректора слабо и что не он на Леонардо, а скорее Леонардо на него имеет право смотреть как учитель на ученика.
Наконец придворный астролог, любимец Моро, мессер Амброджо да Розате, предложил, ссылаясь на Плиния Натуралиста, другое объяснение: окаменелости, имеющие вид морских животных, образовались в недрах земли магическим действием звезд.
При слове «магический» покорная скучающая усмешка заиграла на губах Леонардо.
– Как же, мессер Амброджо, – возразил он, – объясните вы то, что влияние одних и тех же звезд, на одном и том же месте образовало животных не только различных пород, но и различных возрастов, ибо я открыл, что по разрезу раковин, так же как по рогам быков и овец, по разрубленным стволам деревьев, можно с точностью определить число не только лет, но и месяцев их жизни? Как объясните вы, что одни из них цельные, другие сломанные, третьи с песком, илом, клешнями крабов, с рыбьими костями и зубами, с крупным щебнем, подобным тому, какой встречается на морских берегах, из камешков, округленных волнами? А нежные отпечатки листьев на скалах высочайших гор? А водоросли, прилипшие к раковинам, окаменелые, слитые в один комок? Откуда все это? От влияния звезд? Но ведь ежели так рассуждать, мессере, то, я полагаю, во всей природе не найдется ни одного явления, которого бы нельзя было объяснить магическим влиянием звезд, – и тогда все науки, кроме астрологии, тщетны...
Старый доктор схоластики попросил слова и, когда ему дали его, заметил, что спор ведется неправильно, ибо одно из двух: или вопрос об ископаемых животных принадлежит низшему, «механическому» знанию, чуждому метафизики, и тогда говорить о нем нечего, так как не затем они сюда собирались, чтобы состязаться о предметах нефилософских; или же относится он к истинному высшему знанию – к диалектике; в таком случае и рассуждать о нем должно по правилам диалектики, возвысив помыслы к чистому умозрению.
– Знаю, – проговорил Леонардо с еще более покорным и скучающим видом, – знаю, что вы хотите сказать, мессере. Я тоже много думал об этом. Только все это не так!
– Не так? – усмехнулся старик и весь точно налился ядом. – А ежели не так, мессере, просветите нас, будьте добрым, научите, что же, по-вашему, так?
– Ах нет, я вовсе не хотел... Уверяю вас... Я только о раковинах... Я, видите ли, думаю... Словом, нет высших и низших знаний, а есть одно, вытекающее из опыта...
– Из опыта? Вот как! Ну а как же, позвольте вас спросить, как же метафизика Аристотеля, Платона, Плотина – всех древних философов, которые рассуждали о Боге, о духе, о сущностях, – неужели все это...
– Да, все это не наука, – возразил Леонардо спокойно. – Я признаю величие древних, но не в этом. В науке пошли они ложным путем. Хотели познать недоступное знанию, а доступное презрели. Запутали себя и других на много веков. Ибо, рассуждая о предметах недоказуемых, не могу люди прийти к соглашению. Там, где разумных доводов нет, они заменяются криками. Но кто знает, тому кричать не нужно. Слово истины едино, и когда оно сказано, все крики спорящих должны умолкнуть; если же они продолжаются, значит, нет еще истины. Разве в математике спорят о том, дважды три – шесть или пять? Равна ли сумма углов в треугольнике двум прямым или не равна? Не исчезает ли здесь всякое противоречие перед истиной, так что служители ее могут наслаждаться ею в мире, чего никогда не бывает в мнимых, софистических науках?..
Он хотел что-то прибавить, но, взглянув на лицо противника, умолк.
– Ну вот мы и договорились, мессер Леонардо! – еще язвительнее усмехнулся доктор схоластики. – Я, впрочем, знал, что мы с вами поймем друг друга. Одного я в толк не возьму, – вы уж меня, старика, извините. Как же так? Неужели все наши познания о душе, о Боге, о загробной жизни, естественному опыту не подлежащие, «недоказуемые», как вы сами изволили выразиться, не подтверждаются непреложным свидетельством Священного Писания?..
– Я этого не говорю, – остановил его Леонардо, нахмурившись. – Я оставляю вне спора книги боговдохновенные, ибо они суть высшая истина...
Ему не дали кончить. Произошло смятение. Одни кричали, другие смеялись, третьи, вскакивая с мест, обращались к нему с гневными лицами, четвертые, презрительно пожимая плечами, отвертывались.
– Довольно! Довольно! – Дайте возразить, мессеры! – Да что же тут возражать, помилуйте! – Бессмыслица! – Я прошу слова! – Платон и Аристотель! – Все-то дело выеденного яйца не стоит! – Как же позволяют? Истины святой нашей матери церкви! – Ересь, ересь! Безбожие...
Леонардо молчал. Лицо его было тихо и грустно. Он видел свое одиночество среди этих людей, считавших себя служителями знания; видел непереступную бездну, отделявшую его от них, и чувствовал досаду не на противников, а на себя за то, что не сумел замолчать вовремя, уклониться от спора; за то, что еще раз, наперекор бесчисленным опытам, соблазнился надеждой, будто бы достаточно открыть людям истину, чтобы они ее приняли.
Герцог с вельможами и придворными дамами, давно уже ничего не понимая, все же следили за спором с большим удовольствием.




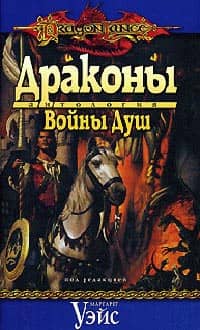

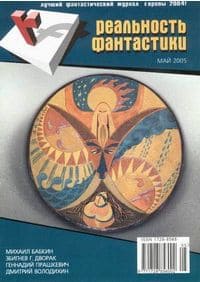 Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий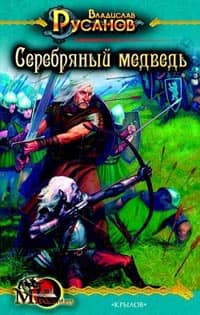 Русанов Владислав
Русанов Владислав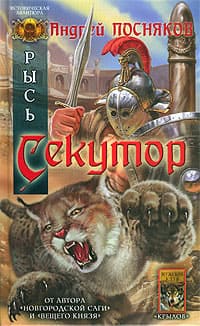 Посняков Андрей
Посняков Андрей Круз Андрей
Круз Андрей Самойлова Елена
Самойлова Елена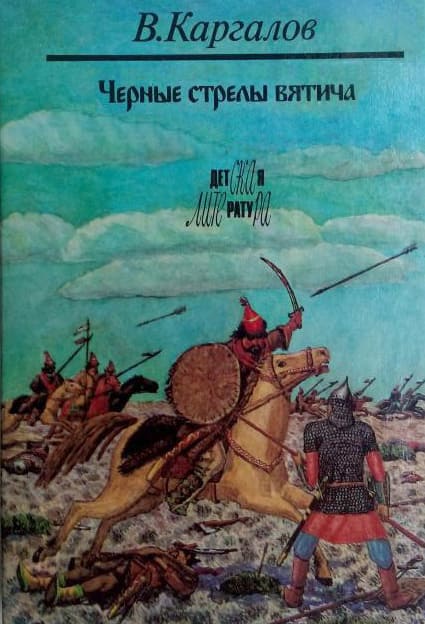 Каргалов Вадим
Каргалов Вадим