Но, вглядевшись пристально, заметил в темной глубине картины тонкий тростниковый крест и в недоумении покачал головой.
Эта смесь священного и греховного казалась ему кощунственной и в то же время нравилась. Он, впрочем, тотчас решил, что придавать этому значение не стоит: мало ли что может взбрести в голову художникам?
– Мэтр Леонар, я покупаю обе картины: Вакха, то бишь Иоанна, и Лизу Джоконду. Сколько хочешь за них?
– Ваше величество, – начал было художник робко, – они еще не кончены. Я предполагал...
– Пустяки! – перебил Франциск. – Иоанна, пожалуй, кончай, – так и быть, подожду. А к Джоконде и прикасаться не смей. Все равно лучше не сделаешь. Я хочу иметь ее у себя тотчас, слышишь? Говори же цену, не бойся: торговаться не буду.
Леонардо чувствовал, что надо найти извинение, предлог для отказа. Но что мог он сказать этому человеку, который превращал все, к чему ни прикасался, в пошлость или непристойность? Как объяснил бы ему, чем для него был портрет Джоконды и почему ни за какие деньги не согласился бы он расстаться с ним?
Франциск думал, что Леонардо молчит потому, что боится продешевить.
– Ну, делать нечего, если ты сам не хочешь, я назначу цену.
Взглянул на мону Лизу и сказал:
– Три тысячи экю. Мало? Три с половиной?
– Сир, – начал снова художник дрогнувшим голосом, – могу вас уверить...
И остановился; лицо его опять слегка побледнело.
– Ну хорошо: четыре тысячи, мэтр Леонар. Кажется, довольно?
Шепот удивления пробежал среди придворных: никогда никакой покровитель искусств, даже сам Лоренцо Медичи, не назначал таких цен за картины.
Леонардо поднял глаза на Франциска в невыразимом смятении. Готов был упасть к ногам его, молить, как молят о пощаде жизни, чтобы он не отнимал у него Джоконды. Франциск принял это смятение за порыв благодарности, встал, собираясь уходить, и на прощание снова обнял его.
– Ну так, значит, по рукам? Четыре тысячи. Деньги можешь получить когда угодно. Завтра пришлю за Джокондою. Будь спокоен, я выберу такое место для нее, что останешься доволен. Я знаю цену ей и сумею сохранить ее для потомства.
Когда король ушел, Леонардо опустился в кресло. Он смотрел на Джоконду потерянным взором, все еще не веря тому, что случилось. Нелепые ребяческие планы приходили ему в голову: спрятать ее так, чтоб не могли отыскать, и не отдавать, хотя бы грозили ему смертною казнью; или отослать в Италию с Франческо Мельци; бежать самому с нею.
Наступили сумерки. Несколько раз заглядывал Франческо в мастерскую, но заговаривать с учителем не смел. Леонардо все еще сидел перед Джокондою; лицо его казалось в темноте бледным и неподвижным, как у мертвого.
Ночью вошел в комнату Франческо, который уже лег, но не мог заснуть.
– Вставай. Пойдем в замок. Мне надо видеть короля.
– Поздно, учитель. Вы сегодня устали. Опять заболеете. Вам ведь уже и теперь нездоровится. Право, не лучше ли завтра?..
– Нет, сейчас. Зажги фонарь, проводи меня... Впрочем, все равно, если не хочешь, я один.
Не возражая более, Франческо встал, оделся, и они отправились в замок.
VIII
До замка было минут десять ходьбы; но дорога – крутая, плохо мощенная. Леонардо шел медленно, опираясь на руку Франческо.
Ночь без звезд была душная, черная, словно подземная. Ветер дул порывами. Ветви деревьев вздрагивали испуганно и болезненно. Вверху, между ветвями, рдели освещенные окна замка. Оттуда слышалась музыка.
Король ужинал в маленьком избранном обществе, забавляясь шуткою, которую особенно любил: из большого серебряного кубка, с искусною резьбою по краям и подножию, изображавшею непристойности, заставлял пить молоденьких придворных дам и девушек в присутствии всех, наблюдая, как одни смеялись, другие краснели и плакали от стыда, третьи сердились, четвертые закрывали глаза, чтобы не видеть, пятые притворялись, что видят, но не понимают.
Среди дам была родная сестра короля, принцесса Маргарита – «Жумчужина жемчужин», как ее называли. Искусство нравиться было для нее «привычнее хлеба насущного». Но, пленяя всех, была она равнодушна ко всем, только брата любила странною, чрезмерною любовью: слабости его казались ей совершенствами, пороки – доблестями, лицо фавна – лицом Аполлона. За него во всякую минуту жизни была она готова, как сама выражалась, «не только развеять по ветру прах тела своего, но отдать и бессмертную душу свою». Ходили слухи, будто бы она любит его более, чем позволено сестре любить брата. Во всяком случае, Франциск злоупотреблял этою любовью: пользовался услугами ее не только в трудах, болезнях, опасностях, но и во всех своих любовных похождениях.
В тот вечер должна была пить из непристойного кубка новая гостья, совсем еще молоденькая девушка, почти ребенок, наследница древнего рода, отысканная где-то в захолустье Бретани Маргаритою, представленная ко двору и уже начинавшая нравиться его величеству. Девушка не имела нужды притворяться: она в самом деле не понимала бесстыдных изображений; только чуть-чуть краснела от устремленных на нее любопытных и насмешливых взоров. Король был очень весел.
Доложили о приходе Леонардо. Франциск велел принять его и вместе с Маргаритою пошел к нему навстречу.
Когда художник в смущении, потупив глаза, проходил по освещенным залам сквозь ряды придворных дам и кавалеров, – не то удивленные, не то насмешливые взоры провожали его: от этого высокого старика, с длинными седыми волосами, с угрюмым лицом, с робким до дикости взглядом, на самых беспечных и легкомысленных веяло дыханием иного, чуждого мира, как веет холодом от человека, пришедшего в комнату со стужи.
– А, мэтр Леонар! – приветствовал его король и, по обыкновению, почтительно обнял. – Редкий гость! Чем потчевать? Знаю, мяса не ешь, – может быть, овощей или плодов?
– Благодарю, ваше величество... Простите, мне хотелось бы сказать вам два слова...
Король посмотрел на него пристально.
– Что с тобой, друг? Уж не болен ли?
Отвел его в сторону и спросил, указывая на сестру:
– Не помешает?
– О нет, – возразил художник, склонившись перед Маргаритою. – Смею надеяться, что ее высочество также будет за меня ходатайствовать...
– Говори. Ты знаешь, я всегда рад.
– Я все о том же, сир, – о картине, которую вы пожелали купить, о портрете моны Лизы...
– Как? Опять? Зачем же ты мне сразу не сказал? Чудак! Я думал – мы сошлись в цене.
– Я не о деньгах, ваше величество...
– О чем же?
И Леонардо снова почувствовал, под равнодушно-ласковым взором Франциска, невозможность говорить о Джоконде.
– Государь, – произнес наконец, делая усилие, – государь, будьте милостивы, не отнимайте у меня этого портрета! Он все равно ваш, и денег не надо мне: только на время оставьте его у меня – до моей смерти...
Замялся, не кончил и с отчаянною мольбою взглянул на Маргариту.
Король, пожав плечами, нахмурился.
– Сир, – вступилась девушка, – исполните просьбу мэтра Леонара. Он заслужил того – будьте милосердны!
– И вы за него, и вы? Да это целый заговор!
Она положила руку на плечо брата и шепнула ему на ухо:
– Как же вы не видите? Он до сих пор любит ее...
– Да ведь она умерла!
– Что из того? Разве мертвых не любят? Вы же сами говорили, что она живая на портрете. Будьте добры, братец мой, оставьте ему последнюю память о прошлом, не огорчайте старика...
Что-то шевельнулось в уме Франциска, полузабытое, школьное, книжное – о вечном союзе душ, о неземной любви, о рыцарской верности: ему захотелось быть великодушным.
– Бог с тобой, мэтр Леонар, – молвил с немного насмешливой улыбкой, – видно, тебя не переупрямишь. Ты сумел выбрать себе ходатайницу. Будь спокоен, я исполню твое желание. Только помни: картина мне принадлежит, и деньги за нее ты получишь вперед.
И потрепал его по плечу.
– Не бойся же, друг мой: даю тебе слово – никто не разлучит тебя с твоею Лизой!
У Маргариты навернулись слезы на глаза: с тихой улыбкой подала она руку художнику, и тот поцеловал ее молча.
Заиграла музыка; начался бал; закружились пары.
И уже никто не вспоминал о странном, чуждом госте, который прошел между ними, как тень, и снова скрылся во мраке беззвездной, черной, словно подземной, ночи.
IX
Франческо Мельци, чтобы вступить во владение небольшим наследством дальнего родственника, должен был получить бумаги от королевского нотариуса города Амбуаза, мэтра Гильома Боро. Это был человек любезный и дружески расположенный к Леонардо.
Однажды, беседуя с Франческо о последних работах учителя, заметил он с шуткою, что и в собственном доме его есть удивительный живописец из Гиперборейских стран. И, когда Франческо стал расспрашивать, повел его на чердак и здесь, в большой низкой комнате, рядом с голубятнею, в углублении слухового окна, показал крошечную иконописную мастерскую Евтихия Паисиевича Гагары.
Франческо, желая развеселить учителя, который в последние дни был особенно задумчив, рассказал ему о мастерской живописца-варвара как о любопытной диковинке, советуя при случае взглянуть на нее. Леонардо помнил разговор свой в Милане, во дворце Моро, на празднике Золотого Века, с русским послом Никитою Карачаровым о далекой Московии; ему захотелось видеть художника из этой полусказочной страны.
Однажды вечером, вскоре после покупки Франциском портрета Джоконды, пошли они к мэтру Гильому.
В тот вечер товарищи Евтихия отправились в замок, на маскарад и бал. Евтихий также собирался; но Илья Потапыч, который сам должен был присутствовать на празднике, отсоветовал ему:
– Когда в здешних поганых фряжских обычаях к питию пьянственному мужи и жены в гнусных личинах и машкерах сойдутся, тут же приходят и некии кощунники, имея гусли, и скрипели, и сопели, и бубны, бесяся и скача и скверные песни припевая: каждый муж чужой жене питие подает с лобзанием, и тут будет рукам приятие, и злотайным речам соплетение, и связь диавольская...
Не столько, впрочем, из боязни соблазнов, сколько потому, что хотел в уединении поработать над новою иконою «Всякое дыхание да хвалит Господа», Евтихий остался дома один, сел на свое обычное место у окна и принялся за работу.
Все ремесленные мелочи искусства были для него не менее святы и дороги, чем высшие правила. Он заботился не об одном изяществе, но и о прочности – писал икону так, чтобы века могли пройти, не испортив ее.
Дерево, обыкновенно липу или клен, выбирал самого ровного белого цвета, выросшее на месте высоком, сухом, и потому не легко загнивающее; старательно заделывал пазы, проклеивал доску крепким стерляжьим клеем, накладывал паволоку из мягкой старой холстины, намазывал слоями жидкий левкас, отнюдь не меловой, который употреблялся мастерами, помышлявшими более о дешевизне, чем о долговечности своих произведений, – а самый дорогой, твердый и нежный алебастровый; давал ему просохнуть, выглаживал хвощом, потом «знаменил», – рисовал тонкою кисточкой с тушью «перевод» с древнего образца и, дабы впоследствии, во время раскрашивания, не сбиться, «графовал», обводил весь очерк узкими, выскребленными острием гвоздя канавками – «графьями»; наконец, приготовлял краски – вапы: распускал их на яичном желтке, протирал в глиняных черепках и раковинах, а иные, самые нежные, на собственных ногтях, заменявших ему палитру; затем начинал писать, сперва «доличное» – все, кроме человеческих лиц: горы, в виде круглых, плоских шапок, деревья – грибами, травы – наподобие перистых черно-красных водорослей, с голубыми точками незабудок, облака – неправильными белыми кружками; одежды грунтовал сначала темно-коричневою краскою, потом обозначал по ним складки и в высоких местах пробеливал; золотые украшения в ризах ангелов и святителей, также завитки и тончайшие усики трав золотил, при помощи спицы, «в проскребку», червонным золотом.
Вся доличная работа была уже исполнена. В тот вечер приступил он к последней, самой важной и трудной части – к писанию человеческих лиц; так же как ризы, загрунтовал их темною краскою, потом постепенно стал «оживлять» тремя личными вохрами, из коих каждая последующая была светлее предыдущей, и, наконец, «подрумянивать щечку и уста, и бородку, и губки, и шейку».
Не довольствуясь резкими белыми «движками» старого новгородского письма, он стремился к новому, рублевскому, сходному с древневизантийским, более совершенному, как тогдашние мастера выражались, плавкому, облачному , в котором розоватое вохрение пущено в тонкую светлую тень; особенно же заботился о благолепии мужей – бороде, то короткой, курчеватой, то длинной, повившейся до земли, то широкой, распахнувшейся на оба плеча, то «рассохатой, с космочками», «продымленной», или с «подрусинками», или «с подсединками»; о выражении лиц величаво-строгом или «страдном» и нежном.
Он совсем погрузился в работу, как вдруг за окном послышался шелест и трепет голубиных крыльев. Евтихий знал, что это кормит птиц соседка, молодая жена старого пекаря. Он часто смотрел на нее украдкою. Над палисадником, между ветвями сирени, в темном четырехугольнике открытого окна, стояла она, с голою шеей, с вырезом платья, сквозь который сверху видно ему было разделение грудей и теплая тень между ними, – с чуть заметными веснушками на белой коже и рыжими волосами, блестевшими на солнце, как золото.
«Чадо, на женскую красоту не зри, – вспоминались ему слова Ильи Потапыча, – ибо та красота сладит сперва, как медвяная сыта, а после горше полыни и желчи бывает. Не возводи на нее очей своих, да не погибнешь. Чадо, беги от красоты женской невозвратно, как Ной от потопа, как Лот от Содома и Гоморры. Ибо что есть жена? Сеть, сотворенная бесом, прельщающая сластями, – проказливая на святых клеветница, сатанинский праздник, покоище змеиное, цвет дьявольский, без исцеления болезнь, коза неистовая, ветер северный, день ненастный, гостиница жидовская. Лучше лихорадкою болеть, нежели женою обладаему быть: лихорадка потрясет, да и пустит, а жена до смерти иссушит. Жена подобна перечесу: сюда болит, а сюда свербит. Кротима – высится, биема – бесится. Всякого зла злее злая жена».


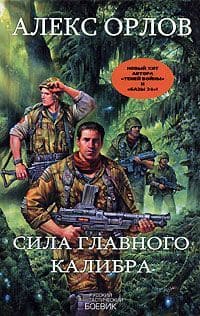
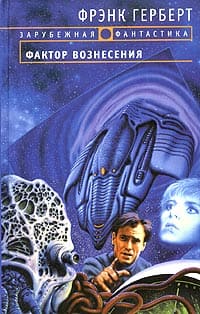
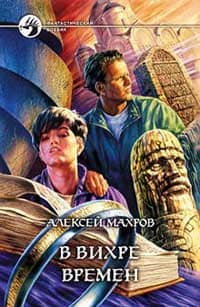

 Адамов Григорий
Адамов Григорий Каргалов Вадим
Каргалов Вадим Орловский Гай Юлий
Орловский Гай Юлий Сапковский Анджей
Сапковский Анджей Шилова Юлия
Шилова Юлия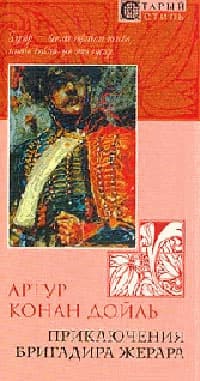 Конан-Дойль Артур
Конан-Дойль Артур