Юкио Мисима
Золотой храм
северо-востоку от Майдзуру. Отец был родом из других мест, его семья жила
в Сираку, восточном пригороде Майдзуру. Уступив настояниям родных, он
принял сан священника и стал настоятелем захолустного прибрежного храма.
Здесь он женился, здесь появился на свет его сын - я.
был вынужден покинуть отчий дом и поселиться у дяди, брата отца, в
Восточном Майдзуру. Там я и стал ходить в гимназию.
но в ноябре и декабре по нескольку раз в день с небес - какими бы синими и
безоблачными они ни были - низвергался холодный осенний дождь. Уж не
коварству ли погоды тех мест обязан я своим непостоянным и переменчивым
нравом?
сидел на втором этаже, в комнатке, отведенной мне для занятий, и глядел из
окна на окрестные холмы. В лучах закатного солнца их склоны, укрытые
молодой листвой, казались мне похожими на расставленные кем-то
позолоченные ширмы. Я смотрел на них и представлял себе Золотой Храм.
на которых был изображен знаменитый храм, но в глубине души я представлял
его себе совсем иным - таким, каким описывал его отец. О, он не говорил,
что от стен святилища исходит золотое сияние, но, по его убеждению, на
всей земле не существовало ничего прекраснее Золотого Храма, и,
вслушиваясь в само звучание двух этих слов, завороженно глядя на два
заветных иероглифа, я рисовал себе картины, не имевшие ничего общего с
жалкими изображениями в учебнике.
заливных полей, и мне уже казалось, что это отсвет невидимого Золотого
Храма. Горный перевал, по которому проходит граница нашей префектуры Киото
и соседней Фукуи, высился прямо на восток от дядиного дома. Из-за тех гор
по утрам восходило солнце.
чудилось, что в солнечном нимбе в утреннее небо возносится Золотой Храм.
море: деревня Сираку находилась в полутора ри от побережья, и Майдзурская
бухта лежала по ту сторону гор, но близкое присутствие моря ощущалось
постоянно - ветер доносил его запахи, в непогоду тысячи чаек прилетали с
берега и садились на рисовые поля.
всех мальчишеских играх и забавах. Это да еще мое врожденное заикание
отдаляло меня от других детей, развивало замкнутость и любовь к уединению.
К тому же все мальчишки знали, что я сын священника, и их любимым
развлечением было дразнить меня, изображая, как заикающийся бонза бормочет
сутры. На уроках чтения, если в книге действовал персонаж-заика, все его
реплики непременно зачитывались вслух - специально для меня.
миром. Труднее всего давался мне первый звук слова, он был вроде ключа от
той двери, что отделяла меня от остальных людей, и ключ этот вечно
застревал в замочной скважине. Все прочие свободно владели своей речью,
дверь, соединяющая их внутренний мир с миром внешним, всегда была
нараспашку, и вольный ветер гулял туда и обратно, не встречая преград. Мне
же это раз и навсегда было заказано, мне достался ключ, изъеденный
ржавчиной.
отчаянных попытках вырваться на волю из силка - силка собственного "я". В
конце концов птичка вырвется, но будет уже поздно. Иногда, правда, мне
казалось, что внешний мир согласен ждать, пока я бьюсь и трепещу
крылышками, но, когда дверь удавалось открыть, мгновение уже утрачивало
свою неповторимую свежесть. Оно увядало, блекло... И мне стало казаться,
что иначе и быть не может, - поблекшая, подгнившая реальность в самый раз
подходит такому, как я.
соблазнительные и противоречивые грезы о власти, вернее, о двух разных
видах власти. То, начитавшись исторических романов, я воображал себя
могущественным и жестоким владыкой. Он заикается и поэтому почти всегда
молчит, но как же трепещут подданные, живущие в постоянном страхе перед
этим молчанием, как робко заглядывают в лицо своему господину, пытаясь
угадать, что их ждет, - гнев или милость? Мне, государю, ни к чему
оправдывать свою беспощадность гладкими и звучными фразами, само мое
молчание объяснит и оправдает любую жестокость. С наслаждением воображал
я, как одним движением бровей повелеваю предать лютой казни учителей и
одноклассников, мучивших меня в гимназии. И еще нравилось мне представлять
себя владыкой иного рода - великим художником, повелителем душ, молча
созерцающим Вселенную. Так, несмотря на жалкую свою наружность, в глубине
души я считал себя богаче и одареннее всех сверстников. Да это, наверно, и
естественно - каждый подросток, имеющий физический изъян, мнит себя тайно
избранным. Не был исключением и я, я знал, что впереди меня ждет пока
неведомая, но великая миссия.
широком пространстве меж плавных холмов.
курсант Майдзурского военно-морского инженерного училища, отпущенный домой
на побывку. Мне этот юноша казался молодым богом, до того он был хорош:
загорелое лицо, надвинутая на самый нос фуражка, мундир с иголочки.
Гимназисты обступили курсанта плотной толпой, а он живописал им тяготы
военной жизни.
героической. Вид курсант имел весьма важный и на гимназистов поглядывал
снисходительно, свысока. Грудь колесом, затянутая в расшитый мундир,
напоминала резную фигуру на носу корабля, рассекающего океанские волны.
ведшей на плац. Вокруг собралась кучка завороженных слушателей,
раскинувшийся на склоне цветник пылал майскими цветами - тюльпанами,
душистым горошком, анемонами, маками.
сидел один, немного в стороне, на скамейке, в почтительном благоговении -
перед великолепием майских цветов, гордого мундира и громких, веселых
голосов.
что я один не признаю его превосходства, и чувствовал себя слегка
уязвленным. Он спросил у восхищенных гимназистов, как меня зовут, и
крикнул:
зашлись от хохота. Как ослепителен издевательский смех!
мне вспыхивающие на солнце стебли травы.
дурь в два счета выбьют.
заикнулся:
рот.
моей души.
что я стою один перед темным миром с широко распростертыми руками. И что
весь этот мир - и его майские цветы, и блестящие мундиры, и мои
безжалостные одноклассники - в один прекрасный день сам упадет в мои
ладони. Мне открылось, что мир крепко схвачен мною, зажат в Моих руках...
Откровение не вызвало во мне чувства гордости, слишком уж тягостным было
оно для подростка.
хотелось обладать чем-то таким, что давало бы мне право гордиться и было
видно каждому. Хотя бы кортиком, висевшим на поясе у него.
был хорош. Поговаривали, правда, что курсанты нередко затачивают своими
кортиками карандаши, но до чего же это было лихо - использовать столь
гордый символ для дела тривиального и низменного!
в белый цвет забор. Там же оказались брюки, рубашка, нижнее белье... От
всей этой одежды, развешенной меж цветов, пахло молодым потом. На сиявшую




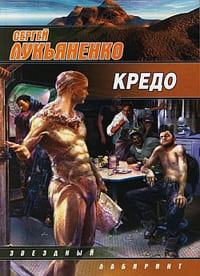
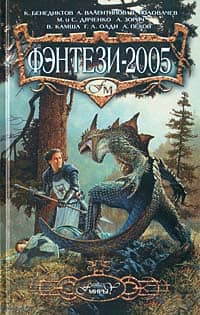
 Василенко Иван
Василенко Иван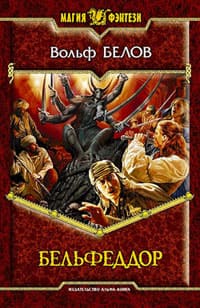 Белов Вольф
Белов Вольф Свержин Владимир
Свержин Владимир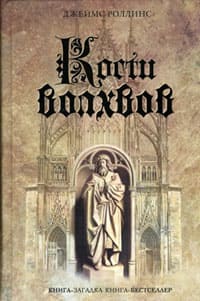 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс Контровский Владимир
Контровский Владимир Шилова Юлия
Шилова Юлия