- напрасное дело: не может сказать, не хочет сказать, боится сказать или
поработал кто-то со стороны... Ну, однажды обчистили меховой магазин
Мичинера на Кузнецком. Купец в слезы - мехов на сто тысяч, да самые
дорогие, да все меченые. Вот кузнецкий квартальный надзиратель зовет к
себе своего Яшку: "Выкладывай". - "Не смею", - говорит тот, а сам еле смех
сдерживает. Надзирателю обидно, потому что иных способов сыска у нас почти
нету. "Говори, пожалуйста", - "Вы меня выдадите". - "Ей-богу, нет". Яшка
думал, думал да и махнул рукой: "Мичинеровские меха все у пристава
Тверской части Хрулева". - "Не может быть!" - "Чистая правда, ваше
благородие". Надзиратель за голову схватился, но знает: Яшка врать не
будет... Едет он к полицмейстеру, полковнику Огареву. Тот тоже за голову
хватается, но поскольку Хрулев уже пару раз проворовался да еще отцовского
огаревского внушения ослушался, Огарев едет к оберполицмейстеру, и там они
решают дать делу законный ход. Ворвались к Хрулеву с повальным обыском...
бычка не нашей работы, а вместо глаз у него - крупные бриллианты. И стоит
этот бычок что-то около пятисот тысяч.
Алесь.
сотни... Хуже то, что людей начал запугивать, - это уже обязательно будет
стоить ему жизни... Так вот дальше... Начали у Хрулева и других
спрашивать, откуда бычок... Выясняется, за год до обыска остановились в
гостинице два иностранца. Один прогуляться вышел, а его товарищ и
переводчик тем временем прихватил его вещи и исчез. Тот возвратился, начал
кричать. Его никто не понимает. Послали за полицией. Явился Хрулев,
обыскал иностранца, документов не нашел, из сказанного им ничего не понял,
а потому отослал человечка в Бутырскую тюрьму, пока не выяснится, кто он.
А выяснить это было невозможно, потому что языка этого человека никто не
знал.
того иностранца. Тот все отдавал, а бычка не хотел, потому что бычок, по
всему видно, был богом иностранца: он носил бычка при себе... И только тут
все ахнули, потому что этого человека уже год как разыскивал Петербург. И
не находил. И скандалил. И все приметы сошлись: путешествовал со своим
секретарем, исчез, лицом темный, идолопоклонник, преклоняется перед
золотым бычком. Словом, арабские сказки, а не ограбление у Мичинера на
Кузнецком... Человека тогда освободили из Бутырок. Привели - взглянуть
страшно: обовшивел, в лохмотьях, кашляет. Люди, которые его искали, - на
колени перед ним. И выясняется, что человек этот есть дагомейский
наследный принц.
брат, к сожалению, правда.
Огарев был в лучших отношениях с Хрулевым? Что тогда было б с принцем?
Да он и так перхал, как овца Говорят, вскорости умер...
Перми до Тавриды...". Вот тебе и дагомейский принц... Так что делайте свои
дела, купцы, да поскорее, поскорее отсюда. А то как бы самим не угодить.
жаловался, хохотал, рыдал и выл.
5
не обманули: штуцера были новенькие, густо залитые маслом, когда-то,
видимо, украденные прямо из провиантских складов, длинные и узкие,
тяжелые, как дремучая смерть... Кирдун должен был за ночь нанять гужевиков
из "темных" и отправить их.
ноздри будто все еще ощущали душный, мерзкий смрад бубновской дыры. В ушах
настойчиво звучали стоны и крики, словно молотом колотило по черепу.
Решили немного прокатиться по городу, а потом поехать ужинать в
"Стрельню", куда впускали и купцов, и людей, одетых, как они, а значит, и
Макара. Кучер был действительно золотой. В самой темной трущобе с ним было
надежно. Простой, не развращенный этим Вавилоном человек с сердцем ребенка
и пудовыми кулаками.
лежал последний отблеск дня. Лошади нырнули, словно в грот, в Спасские
ворота. И только-только выехали на Красную площадь, как Чивьин остановил
Макара:
странная процессия. Горели высоко поднятые факелы, цокали копытами кони,
блестело шитье.
обещая какую-то неясную тревогу.
чтобы их через Красную площадь везли. Как наши долдоны говорят, многовато
им, злодеям, чести.
взломали. Да и Большой Каменный все еще ремонтируют. Подрядчика Скворцова
фортуна (*25).
Минину.
установлен в 1846 году; отменен в 1880 году].
Тускло блестели штыки. За солдатами медленно двигалось что-то мерзкое,
отвратительно-страшное, высокое, как стоячий гроб и как осадный
гуляй-город: черная, как смоль, колесница с высокой, тоже черной, дощатой
башней. На этом сооружении стояла скамья, а на ней, высоко-высоко над
людьми, так что факелы конной стражи едва достигали их ног, сидело четыре
человека: трое мужчин и одна женщина. Дрожащие отблески огня падали на их
лица, на серые халаты, на руки, привязанные к доске, на черные доски,
висевшие у каждого на груди.
аккуратненько, видимо, не для одноразового использования. Люди сидели
спинами к лошадям, а вокруг конная охрана с факелами. За колесницей
покачивалась на неровной мостовой карета, видимо с прокурором. Рядом с
колесницей шел человек в сапогах, кожаных штанах и красной русской
сорочке.
состояния, присудили на каторгу, а теперь будут кнутом бить. Поп
никонианский свой поганый крест будет им в рот совать, будут они стоять у
позорного столба... Не знаешь, Макар, торговая казнь или публичная? (*26)
Кнут или столб?
Проплывала мимо двоих бронзовых мужчин. Женщина приподняла голову, видимо
испуганная появлением чего-то человекообразного рядом, в то время как все
такое должно быть ниже ее. Проследила глазами, куда показывает рукой
нижегородский мещанин.
женщины и двух мужиков. На груди женщины, на черной доске, было выведено:
"Растлительница". На досках ее соседей: "Поджигатели".
не было видно. Но Загорского вдруг как будто что-то кольнуло в сердце:
затылок. Он мог поклясться, что видел этот затылок тысячу раз: в ночном -
из-под свитки, в хате на печи, за столом - склоненным над миской.
свои люди подвели? Не может быть, чтобы подвела подпольная почта! А что я
скажу тогда Кондрату? Чем оправдаюсь я, который твердо обещал ему, что
даже ценой жизни освобожу своего и его брата?"
люди? Верные, надежные, преданные?
головой, меняясь местами, как деревья за окном вагона, узорчатые,
срезанные, похожие на пробки для старых графинов, купола Василия
Блаженного.
головы, узнавал ее и не узнавал, переходил от надежды к страшному отчаянию
и снова к надежде.


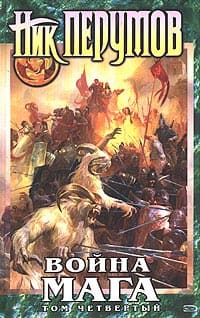
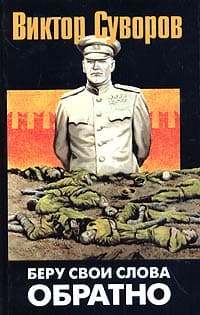


 Никитин Юрий
Никитин Юрий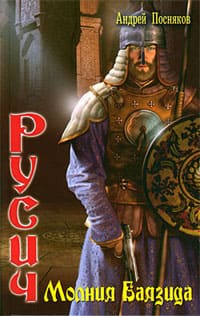 Посняков Андрей
Посняков Андрей Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Самойлова Елена
Самойлова Елена Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Браун Дэн
Браун Дэн