дороге в Аржелуз она успеет "подготовиться к исповеди", как говорила ее
благочестивая подруга Анна де ла Трав каждую субботу в счастливые дни
летних каникул. Милая младшая сестра Анна, невинное создание, какое
большое место ты занимаешь во всей этой истории! Самые чистые люди не
ведают, в чем они бывают замешаны каждый день, каждую ночь и какие
ядовитые семена прорастают там, где ступали их детские ножки.
подружке Терезе, рассудительной насмешнице: "Ты и представить себе не
можешь, какое чувство освобождения испытываешь, когда признаешься на духу
во всем и получишь отпущение грехов, - все старое сотрется и можно зажить
по-новому". И действительно, стоило Терезе решить, что она все скажет, как
она и в самом деле почувствовала облегчение: "Бернар все узнает, я все ему
скажу..."
словами это темное сплетение желаний, решений, непредвиденных поступков?
Как исповедуются те, кто сознает свои преступления? Но я-то ведь не
сознавала свое преступление. Я не хотела сделать то, в чем меня обвиняют.
Я сама не знала, чего я хотела. Я не знала, к чему ведет неукротимая сила,
клокотавшая во мне и вне меня. Сколько же она разрушила на своем пути!
Даже мне самой стало страшно..."
стену железнодорожной станции Низан и стоявшую у дверей тележку. (Какая
тьма сгущается вокруг полосы света!) С поезда, стоявшего на запасном пути,
доносились гудки паровоза, похожие на мычание и печальное блеяние. Гардер
взял саквояж Терезы и снова впился в нее взглядом. Должно быть, жена
велела ему: "Посмотри хорошенько, какая она теперь, поди на ней лица
нет..." Тереза безотчетно одарила отцовского кучера прежней своей улыбкой,
из-за которой люди говорили: "Право, и не поймешь, хорошенькая она или
нет, просто чувствуешь на себе ее обаяние..." Тереза попросила Гардера
купить для нее билет - самой ей страшно было пройти к кассе через зал
ожидания, где сидели две фермерши: пристроив свои корзинки на коленях, обе
они вязали, покачивая головой.
притронулся рукой к фуражке, потом сел на козлы и, разобрав вожжи,
обернулся в последний раз - поглядеть на дочку своего хозяина.
возвращаясь в город к началу учебного года, Тереза Ларок и Анна де ла Трав
радовались долгой остановке на станции Низан. Они закусывали в харчевне
яичницей с ветчиной, потом, обняв друг друга за талию, прогуливались по
дороге. Сейчас она такая темная и мрачная, но в те годы, уже отошедшие в
прошлое, Тереза видела ее всю белую, залитую лунным светом. Подружки
смеялись, глядя на свои длинные, сливавшиеся вместе тени. Разумеется,
говорили об учительницах, о подругах; одна защищала свой монастырский
пансион, другая - свой лицей. "Анна!" - громко произнесла в темноте
Тереза. Прежде всего надо рассказать Бернару об Анне... Но ведь Бернар
обожает точность. Он педантически классифицирует все чувства, каждое
рассматривает отдельно и знать не желает, какая сложная сеть путей,
переходов и переплетений существует меж ними. Как же ввести его в те
туманные области, где жила и страдала Тереза? А ведь это необходимо.
Остается только одно: сегодня вечером войти к Бернару в спальню, сесть у
его постели и повести его за собой шаг за шагом, пока он не остановит ее и
не скажет: "Теперь я понял. Встань. Я прощаю тебя".
хризантем, но самих цветов не могла различить. В купе первого класса
никого не было. Впрочем, при свете тусклого фонаря ее лица все равно никто
бы не разглядел. Читать невозможно, да и любой роман показался бы Терезе
пресным по сравнению с ее ужасной жизнью. Может быть, она умрет от стыда,
от тоски, от угрызений совести, от усталости, но только уж не от скуки.
она, не сможет рассказать всю эту драму так, чтобы суть ее стала понятной?
Да, да. Когда она кончит, Бернар поднимет ее и скажет: "Иди с миром,
Тереза, не тревожься больше. Мы будем жить в Аржелузе, в этом самом доме,
до самой своей смерти, и никогда между нами не встанет то, что произошло.
Мне хочется пить. Спустись сама в кухню, приготовь мне стакан оранжада. Я
выпью его залпом, даже если он окажется мутным. Я не испугаюсь, если у
него будет странный привкус, как у того шоколада, который я когда-то пил
по утрам. Помнишь, любимая, как у меня поднималась рвота? Милыми своими
руками ты поддерживала мне голову, не отводила взгляда от зеленоватой
жидкости, извергаемой моим желудком, приступы рвоты не пугали тебя. Но как
ты была бледна в ту ночь, когда я заметил, что у меня онемели и отнялись
ноги! Меня бил озноб, помнишь? А этот болван доктор Педмэ поражался, что
температура у меня очень низкая, а пульс такой частый..."
начала..." А где начало наших поступков? Наша судьба, когда мы хотим
обособить ее, подобна тем растениям, которые невозможно вырвать из земли
вместе со всеми корнями. Может быть, Терезе надо начать с детства? Но ведь
и само детство - это некий конец, завершение.
казалась ко всему равнодушной, словно и не замечала мелких драм, терзавших
ее подруг. Учительницы часто ставили им в пример Терезу Ларок: "Тереза не
ищет иной награды, кроме радостного сознания, что ее можно считать
олицетворением высоких человеческих чувств. Совесть - вот ее единственная
путеводная звезда. Гордая мысль, что она принадлежит к избранным натурам,
поддерживает ее надежнее, чем страх перед наказанием..." Так высокопарно
говорила о ней одна из учительниц. Тереза думает: "А была ли я счастлива?
Была ли я так чиста сердцем? Вся моя жизнь до замужества предстает передо
мной как свет и чистота, - несомненно, по контрасту с неизгладимой грязью
брачной ночи. Лицей и все, что предшествовало супружеству и рождению
ребенка, кажется мне теперь раем. Но тогда я этого не сознавала. Могла ли
я знать, что в те годы, когда еще не начиналась моя жизнь, я как раз жила
подлинной жизнью? Да-да, я была чиста, да, я была ангелом! Но ангелом,
исполненным страстей. Что бы там ни говорили мои учительницы, а я страдала
и доставляла страдания другим. Я радовалась, что могу причинить
кому-нибудь боль, и радовалась боли, которую причиняли мне мои подруги.
Страдания наши были очень чисты, никакие угрызения совести не
примешивались к ним: наши горести и радости доставляли нам невинные
развлечения".
которой они встречались в летние месяцы под дубами Аржелуза. Тогда она
могла говорить этой девочке, воспитанной монашками Сакре-Кер: "Чтобы быть
такой же чистой, как ты, мне не нужны все эти ваши ладанки и бормотание
молитв". Да и чистота Анны де ла Трав проистекала главным образом из
неведения. Монахини-воспитательницы накидывали множество покровов на
реальную действительность, скрывая ее от своих воспитанниц. Тереза их
презирала за то, что они не видят разницы между добродетелью и неведением.
"Ты, дорогая, жизни не знаешь", - говорила она Анне в те далекие, такие
уже далекие дни чудесных летних каникул в Аржелузе... И вот, думая о них в
поезде узкоколейки, который тронулся наконец, Тереза говорит себе, что
именно с воспоминаний об этих днях ей и нужно начать, если она хочет во
всем разобраться. Невероятно, но это так - светлая заря нашей жизни уже
чревата самыми страшными грозами. "Небо голубое поутру - будет буря днем
иль ввечеру". А после бури увидишь развороченный ливнем цветник, сломанные
ветки и грязь. Когда-то Тереза жила, ни о чем не задумываясь, ничего не
загадывала, на жизненном ее пути не было никаких крутых поворотов, она
незаметно спускалась по склону, сначала медленно, потом все быстрее. И вот
юное, жизнерадостное существо, каким она была в те далекие дни летних
каникул, стало погибшей женщиной, которая возвращается нынче осенним
вечером в тот же Аржелуз, возвращается крадучись, под покровом темноты.
совершилось? В оконном стекле отражается ее лицо, бледное, неподвижное,
как у мертвой, а за окном ничего не видно; колеса стучат по рельсам уже
по-другому, паровоз дает долгий гудок, поезд осторожно подходит к станции.
В темноте покачивается фонарь в чьей-то поднятой руке, какие-то люди
перекликаются, выкрикивают что-то на местном диалекте, пронзительно визжат
выгружаемые из вагона поросята. Это станция Юзест. А дальше - Сен-Клер, а
оттуда придется ехать до Аржелуза в шарабане. Так мало времени осталось у
Терезы, чтобы подготовиться к своей защите.
3
Местные жители называют его "околоток": тут нет ни церкви, ни мэрии, ни
кладбища - просто несколько ферм, разбросанных вокруг ржаного поля;
находится он в десяти километрах от маленького городка Сен-Клер, с которым
его соединяет единственная и притом ужасная дорога. Вся в выбоинах и ямах,
она за Аржелузом разделяется на песчаные тропинки, и до самого океана, на
протяжении восьмидесяти километров, увидишь только болота, лагуны, чахлые
сосны, дюны, где пасутся овцы, у которых шерсть становится пепельно-серого
цвета к концу зимы. Все видные семьи Сен-Клера - выходцы из этого глухого
околотка. В середине прошлого века, когда сосновая смола и древесина стали
давать прибыль вдобавок к тем скудным доходам, какие жители Аржелуза
получали от своих овечьих отар, деды нынешней знати Сен-Клера переселились
в этот городок, а их прежние жилища в Аржелузе стали фермами. Резные балки
потолка да кое-где сохранившиеся мраморные камины свидетельствуют об их
барском происхождении. Но с каждым годом дома эти все больше оседают, и
кое-где широкая стреха обвисшей крыши почти уже касается земли.


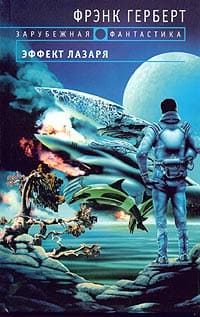



 Соломатина Татьяна
Соломатина Татьяна Каменистый Артем
Каменистый Артем Круз Андрей
Круз Андрей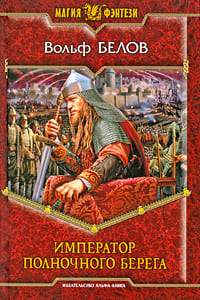 Белов Вольф
Белов Вольф Плотников Александр
Плотников Александр