Франсуа Мориак.
Фарисейка
1
Оказалось, нет, звали как раз меня - это, улыбаясь, окликнул меня бывший
папский зуав. Верхнюю его губу пересекал шрам, и улыбка поэтому получалась
ужасно мерзкая. Полковник граф де Мирбель появлялся раз в неделю во время
переменки, когда наши средние классы выпускали во двор. Его подопечный Жан
де Мирбель - обычно в переменку он отбывал очередное наказание, стоя у
стены, - медленно делал шаг навстречу грозному дяде. Мы издали следили за
тем, как он шел на расправу. Наш учитель господин Рош в качестве свидетеля
обвинения раболепно отвечал на вопросы полковника, высокого кряжистого
старика с "кронштадткой" на голове и в сюртуке военного покроя,
застегнутом до самого подбородка, под мышкой он, по обыкновению, держал
хлыст, сплетенный, вероятно, из бычьих жил. В том случае, если наш
соученик Жан вел себя плохо и переходил все границы", он под конвоем
господина Роша и своего опекуна плелся через весь двор. На наших глазах
вся троица исчезала в подъезде левого крыла здания и подымалась по
лестнице, ведущей в дортуары. Мы бросали игры и стояли неподвижно,
прислушиваясь к длинному жалобному вою - так скулит побитая собака (а
может, это нам только казалось...). Через некоторое время появлялся
господин Рош, рядом с ним шествовал полковник, и на его побагровевшем лице
шрам казался совсем белым. Белки светло-голубых глаз чуть наливались
кровью. Господин Рош шагал, повернувшись к полковнику всем телом,
внимательно прислушивался к его словам, подобострастно хихикал. Пожалуй,
нам, ученикам, представлялся единственный и неповторимый случай видеть
ухмылку на этой ненавистной бледной физиономии под рыжей курчавой
шевелюрой. Он был нашим ужасом и наваждением, этот господин Рош! Когда он
запаздывал к началу урока, я, глядя на пустую кафедру, молил бога:
"Господи, сделай так, чтобы господин Рош умер, пресвятая богородица,
сделай, чтобы он сломал себе ногу, нашли на него ну хоть какую-нибудь
болезнь..." Но он, наш наставник, пользовался железным здоровьем, и его
тонкая рука, сухая его рука была тверже и страшнее любой палки. После
таинственных пыток, которым подвергали Жана (наше детское воображение,
безусловно, преувеличивало размеры дядиного внушения), де Мирбель входил в
класс с красными глазами, с зареванным лицом, с полосками высохших слез на
грязных щеках и молча шел к своей парте. Но мы не поднимали глаз от
тетрадей.
приемной, глядя в спину стоявшего передо мной Жана де Мирбеля. На столике
лежал развернутый пакет, а в нем красовались два эклера и ромовая баба.
Полковник спросил меня, люблю ли я пирожные. Я молча кивнул.
ты ждешь? Если не ошибаюсь, это сынок Пианов? Я их семью знаю... Такой же
робкий, как его бедняга папаша... Но мачеха, Брижит Пиан, вот это женщина,
настоящая мать игуменья! Нет, ты стой здесь! - приказал он Жану,
попытавшемуся было улизнуть. - Так легко ты у меня не отделаешься. Будешь
смотреть, как твой приятель лакомится пирожными... Ну, что же ты,
приступай, чудачок! - добавил он, вперив в меня наливающиеся бешенством
глаза, сидевшие чересчур близко к твердому горбатому носу.
Пиан.
из-под отложного незастегнутого воротничка. Пожалуй, страшнее всего на
свете были эти двое мужчин, низко нагнувшихся надо мной и улыбавшихся мне
прямо в лицо. Я учуял знакомый запах господина Роша - от него разило
хищником. Я пробормотал, что не голоден, но полковник возразил, что
пирожные можно есть даже после сытного обеда. Я не сдавался, и господин
Рош крикнул, чтобы я проваливал ко всем чертям, что не все такие идиоты. Я
бросился бежать, а вслед мне донесся голос господина Роша, звавшего
Мулейра. Мулейр славился своей недетской тучностью и в столовой ел за
троих. Тяжело дыша, он явился на зов. Господин Рош захлопнул дверь
приемной, и вскоре оттуда появился Мулейр с перепачканными кремом губами.
разошлись по домам, а нас, пансионеров, из-за жары выпустили в неурочное
время погулять во дворе. Мирбель подошел ко мне. Тогда мы еще не дружили,
и, думаю, Жан презирал в душе слишком осмотрительного мальчика, примерного
ученика, каким я был в ту пору. Он вытащил из кармана коробочку из-под
пилюль, приоткрыл ее.
козерогами. Жан бросил им вишню для пропитания.
трухлявой корой.
дома нашего коллежа, в тот предзакатный час, когда начинают летать
насекомые.
они еще не дрессированные.
что Жан говорит со мной так мило. Мы присели на ступеньку крыльца,
ведущего в главное здание школы. В этом старинном, не очень просторном
особняке благородных пропорций жили две сотни ребят и человек двадцать
учителей.
насекомого. Мы поиграли немножечко. Такие переменки выпадали нам нечасто,
и сегодняшним летним вечером ни один ученик не стоял наказанный у стены и
никто не требовал, чтобы мы играли в общие игры. Мальчики расселись на
ступеньках крыльца, кто плевался, кто усердно тер абрикосовую косточку:
если оттуда вынуть ядрышко и просверлить дырочку, то получится чудесный
свисток. Здесь, на дворе, за этими высокими стенами, до сих пор стояла
накопившаяся за день духота. Ветки тощего платана не шевелились. Господин
Рош торчал, расставив ноги, на своем обычном посту, возле уборных, - нам
запрещалось там засиживаться. Оттуда тянуло смрадом, который только
отчасти заглушался запахом хлорки и жавеля. По ту сторону стены, по улице
Лейтеир, катил, дребезжа на неровных плитах мостовой, фиакр, и я страстно
завидовал неведомому седоку, кучеру, даже лошади завидовал. Ведь они не
были обречены сидеть под замком в коллеже и трепетать перед господином
Рошем.
года сражались за папу Римского и их в порошок стерли.
обращаются.
умирал, он поклялся ему сделать из меня человека.
хотела отдавать меня на полный пансион. Ей знаешь, чего хотелось? Чтобы
мне наняли учителя и чтобы я остался жить в Ла-Девизе... А он уперся,
сказал, что я слишком испорченный по натуре...
наблюдать за моим воспитанием.
заболел, и делами занимается папа... Но она мне каждый день пишет.
слова услышит моя настоящая мама? А вдруг мертвые подслушивают, что мы о
них говорим? Но если моя мама знает все, она знает и то, что никто не
занял в моем сердце ее места. Как бы чудесно ни относилась ко мне
мачеха... Я не соврал, она и правда писала мне каждый день, но я даже не
распечатал ее сегодняшнего письма. И нынче вечером, когда перед сном я
буду реветь в нашем душном дортуаре, то вовсе не о ней, Брижит Пиан, а о
своей сестре Мишель, о папе, о нашем Ларжюзоне. А ведь именно папа
настаивал, чтобы меня отдали в пансион на круглый год и они могли бы жить
в деревне, но мачеха сделала по-своему. Сейчас они сняли квартиру в Бордо
и я могу возвращаться домой каждый вечер.
что мачеха нарушила клятву, данную перед свадьбой, - жить безвыездно в
Ларжюзоне и выставила в качестве главного предлога меня. Мишель,
безусловно, была права: если мачеха вечно твердит, что я слишком нервный,
слишком впечатлительный ребенок и не вынесу жизни в интернате, она знает,
что делает, - это единственный аргумент, которым можно убедить отца
поселиться в Бордо. Все это мне было известно, но особенно я над этим не
задумывался. Пускай взрослые улаживают свои дела сами! Важно, что


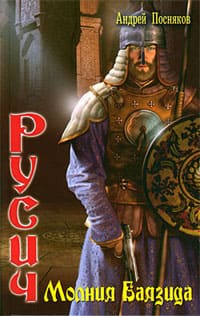
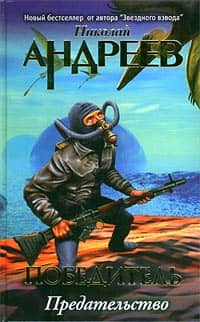


 Посняков Андрей
Посняков Андрей Шилова Юлия
Шилова Юлия Шилова Юлия
Шилова Юлия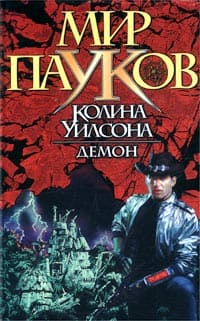 Прозоров Александр
Прозоров Александр Шилова Юлия
Шилова Юлия Мурич Виктор
Мурич Виктор