чувства уступили теперь место восхищению, нежности и уважению, и так
продолжалось все время их разлуки, когда Октавия открывала ему себя лишь
на этих страничках, написанных поздним вечером, перед сном.
здесь не хочу, и вовсе не потому, что она этого не заслуживает, но боюсь,
что найдется немного читателей, способных прочувствовать всю прелесть
истинного смирения, которое и само-то себя не знает и не отдает себе
отчета в силе своей лучистости. Однако обойти ее молчанием я тоже не могу,
так как победа, одержанная Октавией над моей мачехой, ударила рикошетом, и
ударила больно, сразу по нескольким судьбам.
на спасительном от нее расстоянии, нашла в себе мужество сопротивляться и
предостерегала своего друга против пренебрежения нашим собственным
разумением. Она утверждала, что "даже особа, безмерно превосходящая нас
своими добродетелями, опытностью, высотою духа, не может восполнить наше
знание божественной воли, каковое есть плод добродетели самоотречения...
По-моему, весьма полезно слушать советы, идущие извне, если только,
конечно, они не отвращают человека от той настороженной и неизменной
покорности тому, что вершится в нем самом. Ведь господь бог говорит первым
делом в нас самих. Или Вы считаете, друг мой, что это не так? Даже
представить себе невозможно, что сила моих чувств к Вам находится в
противоречии с волей господа. Мне светит Ваш свет, и, когда я пытаюсь
бороться против искушения спешить на его зов, я сразу попадаю в потемки.
Лишь одно меня поддерживает - я слишком дорожу Вашим благом, духовным и
земным, и откажусь от Вас не без отчаяния в душе, но зато, верьте мне,
почти без борьбы. Какой бы я ни была эгоисткой (а видит бог, я эгоистка!),
я слишком люблю Вас, чтобы думать о себе. Я люблю Вас до такой степени,
что не стала бы ни минуты бороться против влияния, которое оказывают на
Вас в Ларжюзоне, если бы только была уверена, что оно послужит Вашему
счастью и что вокруг нашего такого простого и обычного случая не ткутся
хитросплетения. К тому же, поскольку может судить простая, бедная девушка,
существует один пункт, в котором мадам Брижит заблуждается: она еще не в
той мере, как Вы или я, прониклась истиной, что любая живая плоть, даже
уязвленная, - все равно святыня и что вопреки первородному греху самая
прекрасная тайна небес - это рождение младенца. Я слышала, что проповедует
она на сей счет, но, возможно, я недостаточно точно толкую ее слова. О,
друг мой, как дорого мне в Вас чувство любви к детям, которым наградил Вас
господь, к милым детям, какими должны все мы стать, если хотим войти в
царство небесное! Но так как нам не дано уподобиться им, прекрасно уже то,
что мы можем производить их на свет божий. Разумеется, существуют более
высокие призвания... Однако, если я стану Вашей женой, не думаю, что мы
нарушим волю Христа, его требование оставить все и идти за ним, ибо я
заранее подчиняюсь его обожаемой воле через Вас, любимый мой, и через тех,
кто родится от нас... При одной этой мысли я трепещу от счастья..."
глубину поражения мачехи лишь по ее дурному настроению, проявлявшемуся
чаще всего за семейными трапезами, атмосфера которых сгустилась до такой
степени, что мы положительно задыхались.
Брижит Пиан окончательно испортились, но я сам был слишком несчастлив,
чтобы обращать на это внимание. С того дня, как Мишель расцарапала Жану
щеку, между ними воцарился нерушимый мир. Уже прошли те блаженные дни,
когда мой приятель, превратившись в школьника, вместе со мной дразнил
"девчонку". Теперь, когда Жан появлялся у нас в Ларжюзоне, их единственной
заботой было выкроить хоть несколько свободных минут, чтобы побыть
наедине, и, желая от меня отделаться, они изобретали тысячи хитростей,
ровно столько же, сколько изобретал я, чтобы не упускать их из виду. Я сам
стыдился своей назойливости, мне самому она была отвратительна, и, однако,
упорно плелся за ними, притворялся, что не вижу раздраженных, досадливых
взглядов, которыми они обменивались.
вернуть мне исправленный латинский перевод и указать ошибки в тексте, или
самому мне понадобится отлучиться на минутку из комнаты, я уже твердо
знал, что, возвратившись, не застану ни Мишель, ни Жана, куда-то
упорхнувших. И в той аллее, где только что звучал смех Мишель, где мой
приятель звал собаку своим ломающимся, уже не детским баском, я услышу
лишь шорох ветра в сбрызнутой грозовым ливнем листве. Сначала я выкрикивал
эти два имени: "Мишель! Жан! Где вы?" - но потом замолкал, понимая, что
если даже они меня услышат, то нарочно понизят голос до шепота и будут
ступать на цыпочках, чтобы сбить меня со следа.
уединение, так как моя еще не проснувшаяся для подобных ощущений плоть
молчала. Ревность рождается тогда, когда перед вашими глазами стоит
мучительно непереносимая картина радостей, которые любимое существо
получает от другого и щедро дарит их другому. Сомневаюсь, чтобы в ту пору
я мог представлять себе нечто подобное. Но их счастье, в какой-то мере
зависящее от моего отсутствия, - вот что причиняло мне боль, готовую
вырваться в крике.
Ларжюзон. Во время завтрака говорил только один аббат Калю, приехавший к
нам вместе с Жаном. Господин Пюибаро изредка вставлял короткие реплики, но
мадам Брижит не разжимала губ. Будь я не так отвлечен своими мыслями, я
непременно сробел бы - такое мрачное выражение застыло на ее широком лице.
Сидя напротив жены, папа совсем съежился, уткнулся в тарелку и жевал, не
смея поднять глаз. Жан и Мишель с противоположных углов стола
переговаривались взглядами, а я сидел рядом с господином Пюибаро и делал
вид, что внимательно слушаю его слова. Но на свете ничего для меня но
существовало, кроме этой немой перестрелки взглядами между моей сестрой и
моим другом, кроме этого безмятежного спокойствия, которое спустилось на
Мишель потому, что здесь находился Жан. В ее глазах я тоже был лишь
частицей отдельного от них мира, другими словами, просто не существовал.
Ушел, как и все прочие, в небытие.
отменено. Мачеха извинилась за свое молчание, сославшись на мигрень, и
попросила меня сходить к ней в спальню за таблеткой антипирина. Моего
двухминутного отсутствия оказалось достаточно, чтобы Жан с Мишель, презрев
дождь, убежали в сад. Я хотел было броситься за ними, но дождь припустил,
и мачеха запретила мне выходить: "Пускай Мишель мокнет, а ты оставайся
здесь".
ее ужаснуть. Но ей не было дела ни до кого, кроме как до моего наставника.
Мигрень оказалась невыдуманной, и мачехе пришлось пойти прилечь. А папу
ничто в мире не могло заставить отказаться от послеобеденного сна. Итак, я
остался один в бильярдной и смотрел сквозь стеклянные двери на парк,
омываемый струями дождя. В соседней гостиной вели беседу аббат и Пюибаро;
сначала они говорили вполголоса, но скоро я уже слышал каждое их слово.
Мой наставник жаловался на тяжесть и неделикатность некой тирании.
Насколько я мог понять, аббат Калю советовал господину Пюибаро не мешкая
удирать отсюда куда глаза глядят и подсмеивался над его малодушием.
представлял себе Мишель и Жана в неуютной кухне, где огонь, да и то
изредка, разжигали лишь пастухи и где стены казались черными от
бесчисленных рисунков и надписей, читая которые Жан смеялся, а я их просто
не понимал. Они там ласкаются. Меня Мишель никогда не ласкала, даже в
минуты нежности, нежность у нее получалась грубоватая. И Жан тоже, даже в
лучшие наши часы, говорил со мной повелительным тоном. Грубиян-то грубиян,
только не с Мишель. Ей он говорил: "У вас руки совсем холодные" - и брал
ее руки в свои ладони и долго-долго не отпускал. Никогда со мной он не был
ласков. А я так ждал от людей ласки! Вот какие муки терзали меня, когда я
смотрел на мокрый парк.
Балюзак до следующего дождя. Он попросил меня позвать Жана. Я позвонил в
колокол, но позвонил зря: Жан не появился. Тогда аббат Калю заявил, что
его воспитанник уже достаточно взрослый и вполне может добраться до дому
один. Попрощавшись с мадам Брижит, которая, оправившись от мигрени, вышла
пройтись с господином Пюибаро по главной аллее, аббат сел на велосипед и
укатил. А я смотрел, как взад и вперед перед крыльцом прохаживается мачеха
вместе с моим наставником, причем говорит только он один. Разговор был
недолгий, и, хотя до меня не доносилось ни одного слова, произнесенного
громче других, я догадался, что дело плохо. Проходя мимо меня, господин
Пюибаро ласково провел ладонью по моим волосам. Был он бледнее обычного.
полднику они не вернулись. Я вдруг сообразил, что никогда еще они не
оставались наедине так долго. Грусть куда-то испарилась, теперь я
испытывал гнев, ярость, желание причинить им боль, одним словом - все, что
есть самого низкого в том возрасте, когда тот человек, которым мы станем
впоследствии, уже полностью сложился, полностью оснащен для будущего целым
набором склонностей и страстей.
капля падала мне на ухо, сползала вдоль шеи. Лето стояло вялое, без
стрекоз. Если бы только в Ларжюзоне был хоть какой-нибудь другой мальчик,
хоть какая-нибудь другая девочка, с которыми я мог бы водиться без тех
двоих!.. Но я не мог припомнить ни одного лица, ни одного имени. На




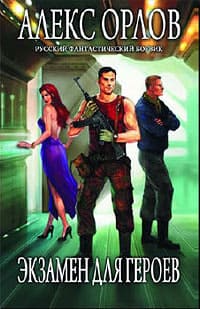

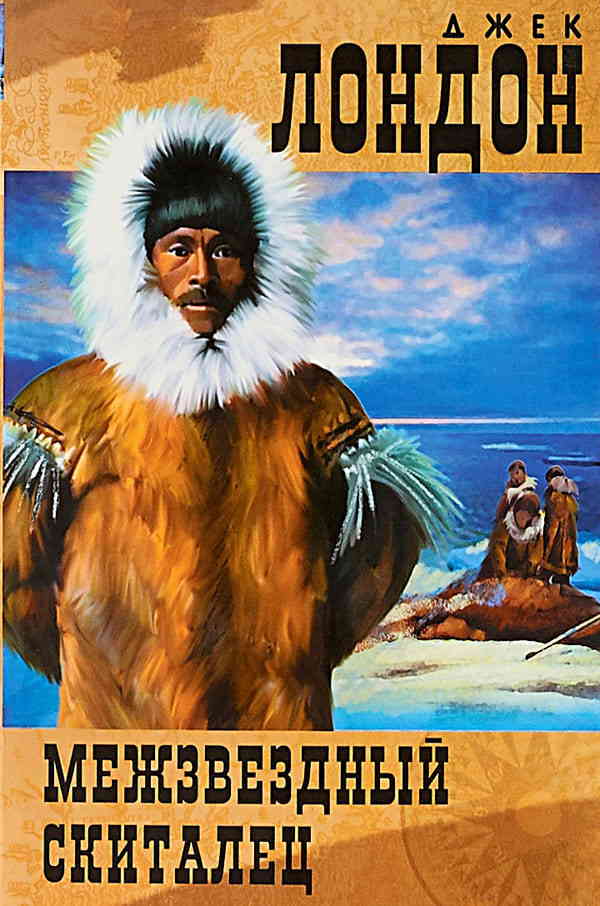 Лондон Джек
Лондон Джек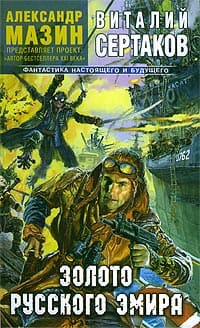 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий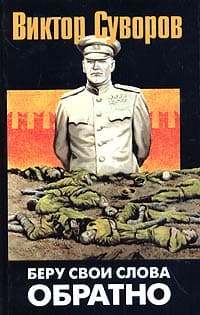 Суворов Виктор
Суворов Виктор Сертаков Виталий
Сертаков Виталий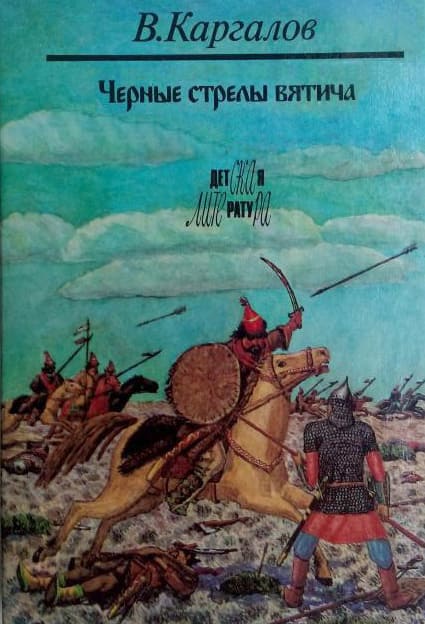 Каргалов Вадим
Каргалов Вадим Херберт Фрэнк
Херберт Фрэнк